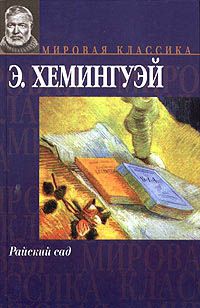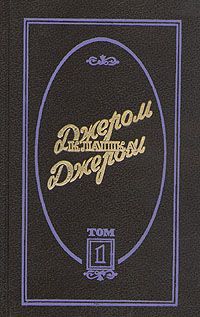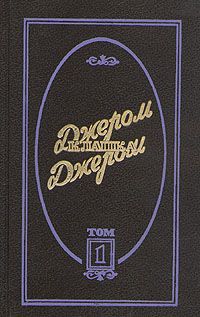Ознакомительная версия.
– Доброе утро, Дэвид.
А он ответил:
– Спи, моя единственная любовь.
– Хорошо, – сказала она и, быстро повернувшись на бок, точно маленький темноволосый зверек, свернулась калачиком и закрыла глаза. Ее длинные темные блестящие ресницы выделялись на фоне розово-коричневой, по-утреннему свежей кожи. Дэвид посмотрел на нее и подумал, что даже во сне она оставалась сама собой. «Она очень красивая, – подумал Дэвид, – и кожа у нее необыкновенно гладкая, как у яванки». За окном быстро светлело, и краски на лице Мариты становились ярче. Дэвид стряхнул сон и, перекинув одежду через левую руку, прикрыл за собой дверь и пошел босиком по мокрым от росы каменным плитам.
В номере, где они жили с Кэтрин, Дэвид принял душ, побрился, нашел свежую рубашку и шорты, оделся, окинул взглядом пустую спальню, где впервые рядом с ним не было Кэтрин, а потом прошел на кухню, достал банку макрели в белом вине, открыл ее и, стараясь не облиться соусом из полной банки, перенес ее и бутылку холодного туборгского пива в бар.
Он открыл бутылку, сплющил колпачок, сдавив его большим и указательным пальцами, и, не найдя корзины для мусора, сунул ее в карман. Потом взял в руку запотевшую бутылку, и капельки влаги покатились по пальцам. Вдыхая пряный запах маринованной макрели из открытой банки, он сделал глоток холодного пива и, поставив бутылку на стойку бара, достал из заднего кармана конверт, раскрыл его и стал перечитывать письмо Кэтрин.
«Дэвид, ты поймешь меня, но я вдруг почувствовала, как это ужасно. Страшнее, чем сбить кого-то, скажем, ребенка, машиной. Что может быть хуже? Глухой, тяжелый удар о крыло или всего лишь легкий толчок, и вот уже остальное происходит само собой, и собирается, ужасаясь, толпа. И француженка пронзительно кричит ecrasseuse[47], даже если виноват был ребенок. Я виновата, я поняла, что виновата, и ничего не поправить. Сознавать это ужасно. Но что сделано, то сделано.
Постараюсь быть краткой. Я вернусь, и мы все уладим наилучшим образом. Не беспокойся. Я сообщу о себе телеграммой, напишу письмо и сделаю все, что нужно для твоей книги, только бы ты ее закончил. Остальное мне пришлось сжечь. Хуже всего оправдываться, но, надеюсь, ты меня понимаешь. Я не прошу простить меня, но, пожалуйста, будь счастлив, а я сделаю все, что от меня зависит.
Наследница не причинила зла ни мне, ни тебе, и мне не за что ее ненавидеть.
На прощание я хотела бы сказать совсем другие слова, но не стану, потому что это покажется совершенно нелепым. И все же я скажу, поскольку я всегда поступала грубо и бесцеремонно, а последнее время, как мы оба знаем, еще и вопреки здравому смыслу. Я люблю тебя и буду любить всегда. Прости меня. Какое бессмысленное слово!
Кэтрин».
Дочитав письмо до конца, он прочел его еще раз. Ему не доводилось раньше читать писем Кэтрин. С того дня, как они познакомились в Париже в баре «Grillon»[48], и до самой свадьбы в американской церкви на авеню Хот они виделись ежедневно, и сейчас, читая в третий раз ее первое письмо, он понял, что она волновала и по-прежнему волнует его.
Он спрятал письмо в задний карман, съел из банки еще одну пухленькую рыбешку в ароматном соусе из белого вина и допил холодное пиво. Потом он вернулся на кухню за хлебом, чтобы собрать им винный соус, и прихватил еще бутылку пива. Сегодня он попытается работать, но наверняка из этого ничего не выйдет. Слишком много волнений, слишком много потерь, вообще слишком много всего, и даже новая его привязанность, какой бы логичной она ни казалась, как бы все ни упрощала, давалась ему мучительно тяжело, и письмо Кэтрин лишь обострило это ощущение.
«Будет тебе, Берн, – думал он, начав вторую бутылку пива, – будет убивать время в размышлениях о том, как все плохо. Выбирай одно из трех: либо попытайся восстановить уничтоженное, либо начни писать новую вещь, либо закончи проклятую повесть о путешествии. Подумай как следует и реши, что лучше. Ты же всегда рисковал, когда нужно было ставить на самого себя. „Никогда не полагайся на людей“, – сказал как-то твой отец, а ты добавил: „Кроме тебя“. „Нет, Дэвид, на себя бы я тоже не положился, – сказал отец, – но ты, маленький хладнокровный шельмец, пожалуй, можешь рискнуть“. Отец хотел сказать „бесчувственный“, но пожалел его. А может быть, он именно это и имел в виду. Не обольщайся, накачавшись туборгским.
Итак, выбирай самый верный путь. Пиши новую вещь, и как можно лучше. И помни, Марита намучилась не меньше тебя. Может, даже больше. Рискуй. Она так же, как ты, переживает утрату».
Только в полдень он наконец отказался от попыток работать. Первое предложение он написал сразу же, как только вошел в комнату, но дальше ничего не получалось. Дэвид зачеркнул первую фразу и попробовал начать сначала, и снова – полная пустота. Следующая фраза не шла, хотя он отчетливо слышал ее. Дэвид попытался еще раз начать с простого предложения, и снова – ничего. Ничто не изменилось и через два часа. Дальше первой фразы он так и не двинулся, а все последующие получались чрезвычайно пустыми и бесцветными. Дэвид не сдавался целых четыре часа, пока не понял, что его настойчивость бессильна перед случившимся. Он признал это, но не смирился, закрыл и спрятал тетрадь с зачеркнутыми рядами строчек и отправился на поиски Мариты.
Она читала на террасе, греясь на солнышке, и, едва взглянув на Дэвида, все поняла и спросила:
– Ничего?
– Хуже, чем ничего.
– Совсем-совсем?
– Ни строчки.
– Давай выпьем, – сказала Марита.
– Давай, – согласился Дэвид.
Они вошли в бар, и вслед за ними в открытую дверь проник теплый день. Это был прекрасный день, такой же, как вчера, или даже лучше, потому что лето уже уходило, и каждый погожий день воспринимался как подарок. «Нельзя терять времени, – подумал Дэвид. – Попробуем провести его хорошо, в свое удовольствие». Он смешал мартини, наполнил стаканы, и напиток получился на вкус ледяным и несладким.
– Ты правильно сделал, что начал писать сегодня утром, – сказала Марита. – Но давай пока забудем об этом.
– Хорошо.
Он взял бутылку джина «Гордонз», слил воду из-под оттаявшего льда и стал отмерять напитки, наливая их в пустой стакан.
– Чудесный день, – сказал он. – Что будем делать?
– Пойдем купаться, – сказала Марита. – Жаль терять такой день.
– Хорошо, – сказал Дэвид. – Предупредить мадам, что мы опоздаем к обеду?
– Она уже приготовила для нас холодные закуски, – сказала Марита. – Я подумала, ты захочешь поплавать в любом случае, как бы тебе ни работалось.
– Очень предусмотрительно, – сказал Дэвид. – А как мадам?
– С синяком под глазом, – ответила Марита.
– Не может быть.
Марита рассмеялась.
Они обогнули мыс по лесной дороге, оставили машину в одном из тенистых островков хвойного леса и перенесли корзину с едой и пляжные принадлежности в спрятавшуюся в прибрежных скалах бухту. Дул слабый восточный ветер, и, когда они вышли из зарослей пиний к морю, оно было темно-синего цвета. Прибрежные скалы были красными, песок в бухте лежал желтыми складками, а вода над песчаным дном, когда они подошли к морю, оказалась янтарно-прозрачной. Они спрятали корзину и рюкзак в тени самого большого из камней, разделись, и Дэвид, собираясь нырять, забрался на камень. Он стоял на камне под солнцем, голый и загорелый, и смотрел на море.
– Хочешь нырнуть? – крикнул он Марите.
Она покачала головой.
– Я подожду тебя.
– Нет, – крикнула она и вошла в воду по бедра.
– Ну и как? – спросил Дэвид сверху.
– Прохладнее, чем обычно. Почти холодная.
– Хорошо, – сказал он, и, пока она, глядя вверх на Дэвида, медленно входила в воду, сначала по живот, потом по грудь, он выпрямился, привстал на мысках, на какое-то время застыл в воздухе, а потом метнулся вперед и вниз, легко разрезав воду, точно дельфин. Она поплыла к бурлящему кругу, но Дэвид уже вынырнул рядом, подхватил ее, обнял и прижался солеными губами к ее губам.
– Elle est bonne, la mer, – сказал он. – Toi aussi.[49]
Они поплыли за пределы бухты в открытое море, туда, где подножие горы скрывалось под водой, и там, лежа на спине, раскачивались на волнах. Вода остыла, но верхний слой немного прогрелся, и Марита лежала, выгнув спину, так что вся голова, кроме носа, была под водой, а поднятые ветерком еле заметные волны нежно омывали ее загорелую грудь. Из-за яркого солнца глаза ее были закрыты. Дэвид плыл рядом и, поддержав ее голову рукой, поцеловал сначала левую, а потом правую грудь.
– У них вкус моря, – сказал он.
– Ты мог бы заснуть прямо здесь?
– А ты?
– Я не смогу лежать только на спине.
– Поплывем подальше и назад.
– Давай.
Они заплыли далеко, так далеко, что показался берег за соседним мысом, а потом и багряные вершины поднимавшихся над лесом гор. Они полежали на спине, глядя на берег, и не спеша поплыли назад, останавливаясь перевести дух, сначала, когда скрылись из виду вершины гор, потом, когда спрятался соседний мыс, а затем уверенно, в один прием миновали вход в бухту и выбрались на берег.
Ознакомительная версия.