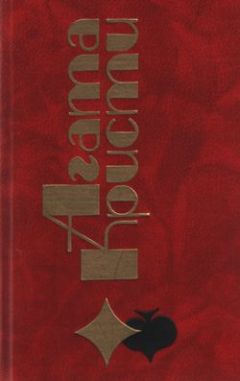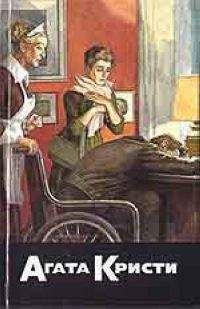Конечно же, он думал о Лесли, когда говорил эти слова. Он думал о Лесли, о ее мужестве, о ее необыкновенном чувстве собственного достоинства.
«Достоинство, это еще не все…»
«Не все?»
Именно после этого у Родни сдали нервы; смерть Лесли оказалась для него слишком сильным ударом.
Теперь Лесли лежит на кладбище, слушает крики чаек, абсолютно равнодушная к земной жизни, и, наверное, посмеивается над ее житейской суетой….
«Ты хоть что-нибудь знаешь о нашем отце?» – почудился ей презрительный голос Тони.
Нет, очевидно, она ничего не знала о своем муже. Она даже не подозревала, что от нее что-то могут скрывать! Впрочем, она ничего не знала потому, что не хотела ничего знать.
Лесли, в тот день, когда Джоанна случайно оказалась у нее в гостях, стояла, у окна и объясняла, почему она хочет ребенка от Чарльза Шерстона.
Родни вспоминая о Лесли, тоже стоял у окна. «Лесли никогда не останавливается на половине пути», – сказал он.
Что они там видели, в своих окнах, эти двое, когда стояли так и о чем-то думали? Что видела Лесли, кроме яблонь и анемонов в своем саду? Что видел Родни, кроме теннисного корта и пруда с золотыми рыбками? Может быть, они оба вспоминали накрытую голубой дымкой зеленую долину с темными пятнами леса на дальних холмах, которую они так долго рассматривали, сидя вместе на вершине Ашеддона?
«Бедный Родни. Бедный мой Родни! – вздохнула Джоанна.
У Родни всегда такая добрая, чуть насмешливая улыбка. Он иногда говорит ей: «Бедная моя, маленькая Джоанна!» Он всегда говорит это с доброй улыбкой, которая никогда не обижает ее.
Все-таки она всегда была ему хорошей женой. Разве не так?
Она всегда в первую очередь защищала его интересы…
Стоп! Разве это на самом деле так?
В воображении у нее вновь встало умоляющее лицо Родни, его грустные глаза. От почему-то считает, что у него всегда грустные глаза.
«Откуда я мог знать, что так возненавижу конторскую работу?» – сказал он ей.
«Как ты можешь знать, что я буду счастлив?» – хмуро спросил он ее.
Родни молил ее дать ему жить так, как он хочет, то есть, быть фермером.
Родни в рыночный день часами простаивал у окна в своем офисе, глядя на скот.
Родни с видимым удовольствием разговаривал с Лесли Шерстон о содержании скота, об уходе за ним и о сохранении породы.
Родни говорил Эверил: «Если человек не имеет возможности заниматься тем, что ему по душе, то это человек лишь наполовину».
Именно этого и добилась Джоанна в отношении Родни.
Джоанна лихорадочно пыталась защитить себя от суда собственной совести.
Ведь она думала, как сделать лучше! Человек просто обязан быть практичным! В конце концов, надо было подумать о детях! Все, что она делала, она делала не из эгоистических побуждений, а единственно ради семьи!
Но этот ее внутренний протест тут же замер перед неопровержимыми доказательствами собственной совести.
А разве она не эгоистка?
Разве она не возражала, причем в самой категоричной форме, против жизни на ферме? Она всегда, по ее словам, желала детям добра, но разве так получились на самом деле? Разве Родни был неправ, когда говорил ей, что она заставляет детей делать то, что прежде всего нужно ей самой?
Разве не он, как их отец, обладает преимущественным правом выбора, как жить детям? Мать им нужна лишь для того, чтобы они были здоровы, сыты, ухожены и чтобы с уважением и почтительностью воспринимали правила и примеры жизни, подаваемые их отцом, Разве не так?
Родни говорил, что жизнь на ферме пойдет на пользу детям.
Тони не скрывал, что был бы очень рад такой жизни.
Родни заметил, что не следует мешать Тони жить той жизнью, которая ему по душе.
– Я не люблю заставлять людей делать то, чего они не хотят, – сказал Родни.
Но сама Джоанна отнюдь не стеснялась заставлять Родни делать то, чего ему не хотелось.
«Но я люблю Родни! – с неожиданной острой болью подумала Джоанна. – Я люблю Родни. Не может быть, чтобы я не любила его!»
И вдруг она с отчетливой ясностью поняла, что тем более ее вина непростительна.
Она любила Родни и тем не менее так с ним обращалась!
Ее поведение можно было бы понять и извинить, если бы она ненавидела его.
Если бы даже она была к нему совершенно равнодушна, и то ее грех был бы не столь велик.
Но она любила его и все-таки, любя его, отняла у него его право, принадлежащее ему от рождения, – право выбирать собственный способ и образ жизни.
И вследствие того, что она беззастенчиво пользовалась своим исконным женским оружием: ребенок в колыбели, ребенок в ее чреве, – она отняла у него что-то такое, чего он уже никогда не восстановит. Она отняла у него долю его мужества.
Его прирожденная мягкость и вежливость не позволяли ему бороться с нею, отстаивать свои права, и в этом отношении он, конечно же, был перед нею, наверное, самым беззащитным человеком на земле.
«Родни!.. Мой Родни! – думала Джоанна. – Никогда я не смогу тебе вернуть то, что отняла! Никогда я не смогу восстановить урон, который нанесла тебе!»
«Но я люблю его! Ведь я же люблю его!»
«Я и Эверил люблю, и Тони, и Барбару…»
«Я всегда любила их…»
«Но этого, очевидно, недостаточно», – тут же возражала она самой себе.
«Родни! Неужели теперь уже ничего нельзя поделать? – спрашивала себя Джоанна. – Неужели мне нечего сказать в свое оправдание?»
Цветущею весной я скрылась от тебя…
«Да, – подумала она. – Я скрылась надолго. С той самой весны. С той самой весны, когда мы сказали, что любим друг друга».
«Я осталась той же самой, какой и была еще в школе. Бланш права. Я. всего-навсего примерная ученица из «Святой Анны». Привыкшая к легкой жизни, не желающая утруждать себя мыслями, самодовольная, всеми силами избегающая всего, что может доставить мне неприятные впечатления».
«Лишенная внутреннего достоинства».
«Так что же мне делать? – думала она. – Что мне делать?»
«Я должна приехать к нему, – думала она, – Я должна сказать:
– Я виновата, Родни. Прости меня!»
– Да, я должна это сказать. Я должна. Я скажу ему:
– Прости меня, Родни. Я не знала. Я просто ни о чем не догадывалась.
Джоанна поднялась на ноги. Все суставы у нее ныли и болели. Ноги не слушались ее. Она чувствовала себя очень усталой.
Она медленно побрела к гостинице, с болью ощущая каждый шаг, словно глубокая старуха.
Шаг… Еще один… Одна нога… Затем другая…
«Родни! – думала она. – Родни!..»
Какой больной, какой слабой чувствовала она себя.
Путь до гостиницы показался ей необыкновенно длинным, очень длинным.
Индус вышел из гостиницы навстречу ей, Лицо его лучилось улыбкой.
– Хорошие новости, мэмсахиб! Хорошие новости! – прокричал он еще издали, отчаянно жестикулируя.
Джоанна пустым взглядом посмотрела на него.
– Вы поняли меня? Пришел поезд! Поезд пришел на станцию! Сегодня вечером вы уедете отсюда!
«Поезд? – отстраненно подумала она. – Поезд, который отвезет меня к Родни…»
«Прости меня, Родни! Прости меня!» Она словно издалека услышала свой смех, глухой, ненатуральный. Индус в недоумении посмотрел на нее, потом повернулся и пошел к станции. Она поплелась следом за ним.
– Значит, поезд пришел, – повторила она, постепенно овладевая смыслом сказанных индусом слов. – Ну что ж, очень кстати…
Все это словно сон, думала Джоанна, да, все это словно сон.
Пройдя меж извивов колючей проволоки, мальчишка-араб принес ее чемоданы и что-то по-турецки пронзительно закричал: рослому, толстому, с подозрением смотревшему на них турку, начальнику станции.
У перрона стоял, поджидая ее, знакомый спальный вагон с кондукторами в униформе шоколадного цвета, которые выгладывали из окон.
На вагоне красовалась надпись «Алеппо – Стамбул».
Этот вагон был единственной ниточкой, которая связывала ужасную гостиницу в пустыне с цивилизованны миром!
Проводник, отменно вежливый и по-европейски услужливый, приветствовал ее по-французски и открыл перед нею дверь купе, в котором заправленная постель сверкала белизной подушки и простыней.
Джоанна почувствовала, что наконец возвращается в цивилизованный мир…
Внешне Джоанна выглядела как спокойный, бывалый путешественник, та же самая миссис Скудамор, которая неделю назад оставила Багдад. Лишь она одна знала, какое удивительное преображение, какая поразительная перемена скрывается за ее невозмутимым внешним обликом.
Поезд, как она уже отметила, пришел очень кстати. Он появился именно тогда, когда рухнули последние барьеры, которые она воздвигала всю жизнь, – рухнули, смытые лавиной страха и одиночества.
Для нее, как и для всякого человека, оказавшегося наедине с собой, наступило прозрение. Она поняла саму себя. И, хотя в данную минуту она выглядела как самая обыкновенная путешествующая англичанка, утомленная тяготами длительного странствия, тем не менее ее сердце и ум находились в состоянии самоуничижения, которое охватило ее, когда она, одинокая и потерянная в пустыне, сидела на песке, подавленная тишиной и жгучим солнечным светом.