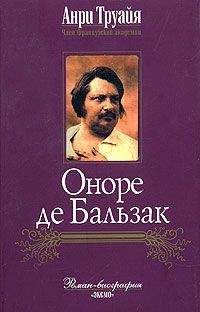Слезы полились из её горящих глаз. Четверо детей жалобно закричали, бросились к ней, как цыплята к наседке, а старший ударил генерала, не сводя с него сердитого взгляда.
— Абель, — промолвила она, — ангел мой, я плачу от радости.
Она посадила его на колени, и ребёнок обнимал её царственную шею, ластился к матери, как львёнок, играющий с львицею.
— А не случается тебе скучать? — спросил генерал, ошеломлённый восторженным ответом дочери.
— Случается, — ответила она. — Когда мы бываем на суше. Да и там я ещё никогда не расставалась с мужем.
— Но ведь ты любила празднества, балы, музыку?
— Музыка — это его голос; празднества — это наряды, которые я придумываю, чтобы нравиться ему. А если ему по вкусу мой убор, то мне кажется, будто мной восхищается весь мир. Поэтому я и не бросаю в море все эти бриллианты, ожерелья, диадемы, усыпанные драгоценными каменьями, все эти сокровища, цветы, произведения искусства, которые он дарит мне, говоря при этом: “Елена, ты не бываешь в свете, и я хочу, чтобы свет был у тебя”.
— Но на корабле полно мужчин, дерзких, грубых мужчин, страсти которых…
— Я понимаю вас, отец, — усмехнувшись, ответила Елена. — Успокойтесь. Право, императриц не окружают таким почётом, как меня. Они суеверны; они думают, что я — добрый дух корабля, их предприятий, их успехов! Но их бог — он! Однажды, — это было лишь раз, — какой-то матрос был недостаточно почтителен со мною… на словах, — прибавила она, смеясь. — И не успело это дойти до Виктора, как экипаж выбросил матроса в море, хоть я и простила его. Они любят меня, как своего ангела-хранителя; стоит им заболеть, я за ними ухаживаю: неустанная женская забота так нужна, — мне удалось спасти многих от смерти. Мне жаль этих несчастных, — в них есть что-то исполинское и младенческое.
— А если бывают сражения?
— Я привыкла к ним, — ответила она. — Только в первый раз я дрожала. Теперь моя душа закалена в опасностях и даже… Я ведь ваша дочь, — сказала она, — я люблю их.
— А если он погибнет?
— Я погибну с ним.
— А дети?
— Они — сыны океана и опасности, они разделят участь родителей. Жизнь наша едина, мы неразлучны. Все мы живём одной жизнью, все вписаны на одной странице книги бытия, плывём на одном корабле; мы знаем это.
— Так, значит, ты любишь его так беззаветно, что дороже его для тебя нет никого в мире?
— Никого, — повторила она. — Но в эту тайну не стоит углубляться. Взгляните на моего милого мальчугана, ведь это его воплощение!
И, крепко обняв Абеля, она стала осыпать поцелуями его волосы…
— Но, — воскликнул генерал, — мне не забыть, как он сейчас велел сбросить в море девять человек…
— Значит, так было нужно, — ответила она, — он очень добр и великодушен. Он старается пролить как можно меньше крови, чтобы сберечь и поддержать мирок, которому покровительствует, и ради того благородного дела, которое он защищает. Скажите ему о том, что показалось вам дурным, и, вот увидите, он убедит вас в своей правоте.
— А преступление его? — сказал генерал, как бы говоря с собою.
— Ну, а если это было правым делом? — промолвила она с холодным достоинством. — Если человеческое правосудие не могло отомстить за него?
— Само правосудие не могло отомстить? — воскликнул генерал.
— А что такое ад, — спросила она, — как не вечное отмщение за какие-нибудь грехи краткой нашей жизни?!
— Ах, ты погибла! Он околдовал, развратил тебя. Ты говоришь, как безумная.
— Останьтесь ещё с нами хоть на день, отец, и когда вы увидите, услышите его, — полюбите его…
— Елена, — строго сказал старик, — мы в нескольких лье от Франции…
Она вздрогнула, посмотрела в окно и указала на беспредельную зеленоватую водную даль.
— Вот моя родина, — ответила она, притопнув ногой по ковру.
— Неужели ты не хочешь повидаться с матерью, сестрой, братьями?
— Конечно, хочу, — ответила она со слезами в голосе, — но только если он согласится и будет сопровождать меня!
— Итак, Елена, у тебя ничего не осталось, — сурово заключил старый воин, — ни родины, ни семьи?
— Я жена его, — возразила она с гордым видом, с выражением, исполненным благородства. — За все эти семь лет лишь сейчас мне довелось впервые испытать радость, которою я обязана не ему, — добавила она, взяв руку отца и целуя её, — и впервые услышать упрёк.
— А совесть твоя?
— Совесть! Да ведь совесть — это он.
И вдруг она вздрогнула.
— А вот и он сам, — сказала она. — Даже во время боя, сквозь шум на палубе я различаю его шаги.
И щёки её внезапно зарумянились, всё лицо расцвело, глаза заблестели, кожа стала матово-белой… Всё существо её, каждая голубая жилка, невольная дрожь, охватившая её, — всё говорило о счастье любви. Такая сила чувства умилила генерала. И правда, сейчас же вошёл корсар и, сев в кресло, подозвал старшего сына и стал играть с ним. С минуту длилось молчание; ибо генерал, поглощённый задумчивостью, подобной сладостной дремоте, рассматривал изящную каюту, похожую на ласточкино гнездо, где семья эта семь лет плавала по океану меж небом и волнами, уповая на человека, который вёл её сквозь опасности в боях и бурях, как проводит семью глава её среди бедствий общественной жизни… Он с восхищением смотрел на дочь, на этот волшебный образ морской богини, пленительно красивый, сияющий счастьем, и все сокровища, рассыпанные вокруг неё, бледнели перед сокровищами её души, перед огнём её глаз и той неописуемой прелестью, которой вся она дышала.
Всё складывалось необычайно, и это поражало его, а возвышенность чувств и рассуждений сбивала с толку обычные его представления. Холодные и себялюбивые расчёты светского общества меркли перед этой картиной. Старый воин почувствовал всё это, и он понял также, что дочь его никогда не расстанется со своей привольной жизнью, богатой событиями, наполненной истинной любовью; он понял, что если она хоть раз изведала, что такое опасность, и не устрашилась её, то уже не пожелает вернуться к мелочной жизни ограниченного и скудоумного света.
— Я вам не помешал? — спросил корсар, прерывая молчание и глядя на жену.
— Нет, — ответил генерал. — Елена мне всё рассказала. Я вижу, что для нас она потеряна…
— Подождите, — живо возразил корсар. — Ещё несколько лет, и срок давности позволит мне вернуться во Францию. Когда совесть чиста, когда человек, лишь попирая законы вашего общества, может…
Он замолк, не считая нужным оправдываться.
— И вас не мучает совесть? — спросил генерал, прерывая его. — Ведь вы опять, на моих глазах, совершили столько убийств…
— У нас не хватает съестных припасов, — невозмутимо сказал корсар.
— Но вы бы могли высадить людей на берег…
— Они послали бы за нами сторожевой корабль, отрезали бы нам отступление, и мы не добрались бы до Чили…
— Однако, прежде чем они успели бы предупредить из Франции адмиралтейство Испании…
— Но Франции наверняка не пришлось бы по вкусу, что некто, да ещё человек, подлежащий её уголовному суду, завладел бригом, зафрахтованным уроженцами Бордо. Скажите-ка, неужели вам не доводилось на поле битвы делать немало лишних пушечных выстрелов?
Взгляд корсара привёл генерала в замешательство, и он промолчал, а дочь взглянула на него, и взор её выражал и торжество и печаль.
— Генерал, — значительным тоном произнёс корсар, — мой закон — ничего не присваивать себе из общей добычи за счёт товарищей. Но нет никаких сомнений, что моя доля будет гораздо больше, чем отнятое у вас состояние. Позвольте мне возместить его вам другой монетой…
Он взял из-под крышки рояля большую пачку банковых билетов и, не считая их, протянул маркизу — в пачке был миллион.
— Вы понимаете, — произнес он, — что мне нечего делать на путях в Бордо… Итак, если вас не прельщают опасности нашей бродячей жизни, виды Южной Америки, наши тропические ночи, наши сражения и радостная надежда, что мы поддержим знамя молодой республики или имя Симона Боливара, то вам придётся нас оставить… Шлюпка и преданные люди ждут вас. Будем надеяться на третье и вполне счастливое свиданье…
— Виктор, а мне так хочется, чтобы отец ещё немного побыл с нами, — с досадою промолвила Елена.
— Десять минут промедления, и мы, пожалуй, столкнёмся со сторожевым фрегатом. Что ж, тогда позабавимся. А то наши люди скучают.
— О, уезжайте, отец! — воскликнула Елена. — И отвезите вот это сестрице, братьям… и матери… — прибавила она, — на память от меня.
Она схватила пригоршню самоцветов, ожерелий, драгоценностей, завернула их в кашемировую шаль и робко протянула отцу.
— А что же мне сказать им? — спросил он, поражённый тем, что дочь помедлила, прежде чем произнести слово “мать”.
— Ах, как можете вы сомневаться в моей душе? Я ежедневно молюсь за их счастье.