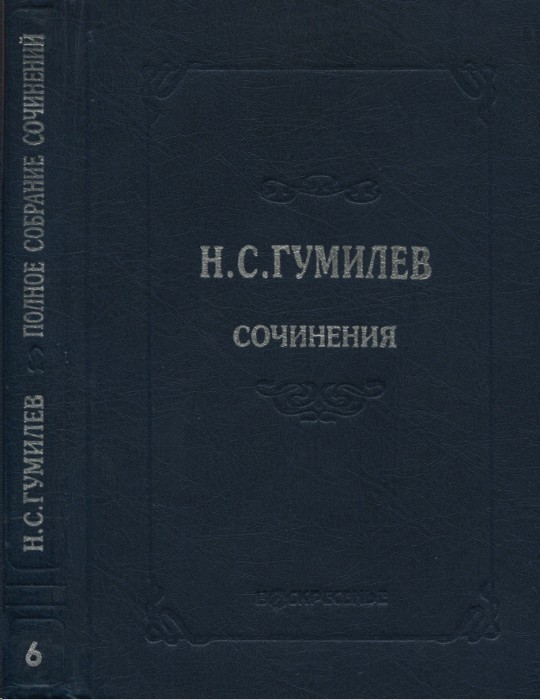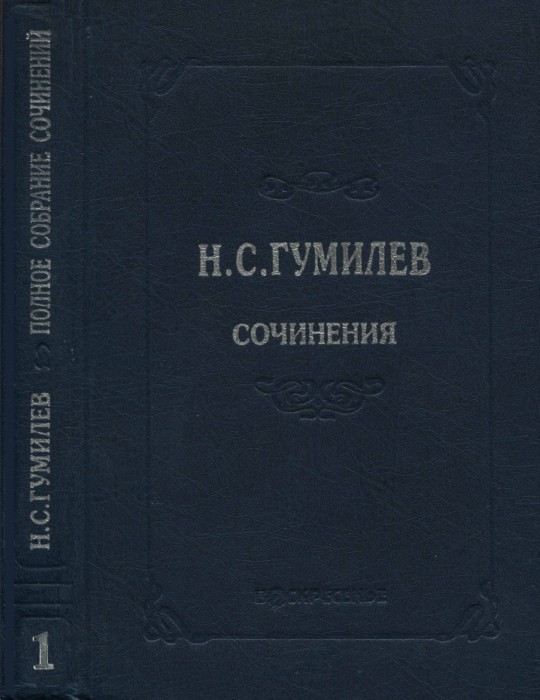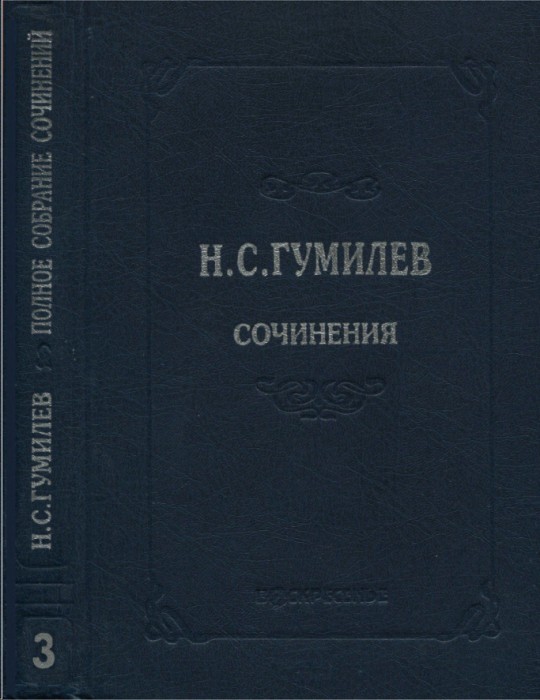в дом медведей, и все ждал услышать громкое:
«Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?»
...............
Дики были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо труб, каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска «Ресторан». Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.
...............
Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат ............... но, когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещенье.
III
Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне.
Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан.
Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.
В таких местах, что бы ты ни делал, — любил или воевал, — все представляется значительным и чудесным.
Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?
...............
На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело.
Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга.
Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие — мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а... а... а...» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачка шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод — те же медленность и неуклонность.
Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «Ложись... прицел восемьсот... эскадрон, пли», — и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет, как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.
...............
Поздно ночью мы отошли на бивак ............... в большое имение.
...............
В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался, или, вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидимой дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности.
Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами, как на ладони, виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно.
Держа винтовки в руках, мы