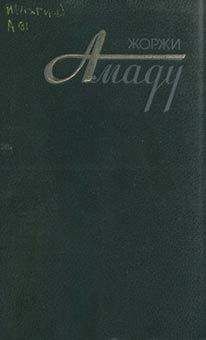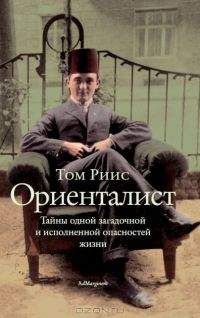Ознакомительная версия.
Как-то он зашел и ко мне, стал во всех деталях живописать мой героизм при обороне Баку. Получалось, что легионы врагов проходили торжественным строем под дулом моего пулемета только для того, чтобы иметь счастье быть сраженными моими пулями. Сам он во время боев отсиживался в подвале какой-то типографии и писал патриотические воззвания, которые нигде не были распространены. Он прочитал их мне и принялся выспрашивать — какие чувства испытывает человек, встретившийся лицом к лицу с врагом.
Я набил ему рот сладостями и выставил вон. Он ушел, оставив новенькую, пахнущую типографской краской тетрадь, чтобы я записывал туда свои героические воспоминания.
Я задумчиво перелистал эту тетрадь, вспоминая грустное лицо Нино, думая о своей запутанной, непонятной жизни, и взялся за перо. Я, конечно, не собирался описывать ощущения героя, сражающегося с врагом. Я хотел описать нашу с Нино жизнь, убившую радость в глазах моей жены, рассказать о пути, который привел нас в благоухающий розами сад шамиранского дворца.
Я стал приводить в порядок записи, которые вел еще в гимназии, постепенно втягивался в работу, и наша прошлая жизнь день за днем вставала перед моими глазами.
От работы меня оторвал Сеид Мустафа. Он наклонился, прижимаясь щекой к моему плечу.
— Я запутался в этой жизни, Сеид, — сказал я, — потерял нить. Путь на фронт закрыт. Нино больше не смеется, я же вместо крови проливаю чернила. Что мне делать, Сеид Мустафа?
Мой друг спокойно и внимательно посмотрел на меня. Одет он был в черный костюм, лицо его вытянулось, и вся худая фигура, казалось, согнулась под бременем некоей тайны.
— Одними руками ты ничего не добьешься, Али хан, — сказал он, садясь. — Но ведь человеку даны не только руки. Взгляни на мою одежду, и ты поймешь, что я хочу сказать. Над людьми властвует сила Всевышнего. Прикоснись к этой тайне, и ты обретешь силу.
— Я не понимаю тебя, Сеид. Мой дух измучен, я ищу выход во мраке, который окружает меня.
— Все оттого, что ты видишь лишь рабов божьих, но забываешь о Всевышнем, властвующим над этими рабами. Внук Пророка, преследуемый врагами веры, погиб в Кербалае в 680 году. Он был спасителем, знающим тайну. Его кровью окрасил Всевышний восходящее и заходящее солнце. Шиитской общиной руководили двенадцать имамов: первым из них был Гусейн, а последним Незримый Имам Сахиб-аз-Заман, скрывающийся и по сей день. Этот незримый имам проявляется во всех своих делах, но, несмотря на это, он остается невидимым. Я вижу его в восходящем солнце, в зерне, в бушующем море. Его голос слышится мне в пулеметной очереди, в стонах женщин, в вое ветра. И Всевышний говорит мне: будущее шиитов — печаль! Траур по Гусейну, погибшему в Кербалайской пустыне, частица этого будущего. И ежегодно один месяц мы отдаем этой печали, этому трауру. Это месяц мухаррем, в который несчастный оплакивает свое горе. На десятый день мухаррема шиит обретает уготованное ему Всевышним, ибо это день гибели мучеников. Муки, принятые младенцем Гусейном, должны принять на себя люди благочестивые. Взявший на себя хотя бы малую толику тех мук приобщается к частице божественного милосердия. Вот потому-то и бичуют себя цепями правоверные мусульмане. Лишь через эти муки заблудшим откроется сладостный путь к милосердию и свободе.
— Сеид, — раздраженно сказал я, — я спрашиваю тебя, как мне вернуть счастье в мой дом, потому что душа моя объята страхом. А ты мне пересказываешь написанное во всех учебниках. Так что же, мне ходить по мечетям и хлестать себя цепью? Я — человек верующий и исполняю все требования религии. Я так же, как и ты, верую в тайну Всевышнего, но я не верю, что путь к моему счастью лежит через скорбь по святому Гусейну.
— А я верю в это, Али хан. Ты спрашиваешь меня о пути, я указал его тебе. Другого пути я не знаю. Ильяс бек проливает кровь на гянджинском фронте. Ты туда попасть не можешь. А потому пролей свою кровь на десятый день мухаррема, пролей ее во имя Всевышнего, который требует от тебя этой жертвы. Но молчи, не говори, что эта священная жертва будет бессмысленной. Все имеет смысл в этом мире скорби. В мухаррем и ты, как и сражающийся в Гяндже Ильяс бек, вступишь в сражение за родину.
Я молчал.
Карета с зашторенными окнами въехала во двор. Ворота в сад гарема распахнулись, и тут Сеид Мустафа неожиданно поднялся и сказал, что очень спешит.
— Приходи завтра ко мне в мечеть Сипехлезар. Продолжим наш разговор там.
В гареме нашлись замечательные нарды с инкрустированной перламутром доской и шашками из слоновой кости. Я научил Нино играть в нарды, и с тех пор мы играли на туманы, серьги, поцелуи или имя будущего ребенка. Нино проигрывала, расплачивалась со мной и снова бросала кости. Глаза ее азартно блестели, а пальцы прикасались к шашкам так, словно они были сделаны не из слоновой кости, а из драгоценных камней.
Мы играли с ней, лежа на диване. Выдав мне проигранные восемь туманов серебром, Нино вздохнула.
— Ты разоришь меня, Али хан.
С этими словами она захлопнула доску, вытянулась, положив голову мне на колени, и устремила задумчивый взгляд в потолок. Сегодня день сложился удачно, и Нино, вкусив сладость мести, теперь блаженствовала. А дело обстояло так.
С утра в доме поднялся переполох, за дверью послышались стоны, а потом в комнату, морщась от боли, вошел злейший враг Нино — Яхья Кули. Одна щека его опухла.
— Зуб болит, — жалобно сказал он.
Глаза Нино зажглись торжеством победы. Она подвела слугу к окну, заставила его открыть рот и нахмурилась, озабоченно качая головой. Потом взяла суровую нитку, завязала один конец на дуплистом зубе Яхья Кули, а другой — привязала к дверной ручке.
— Вот так, — проговорила она и резко захлопнула дверь.
Яхья Кули испустил истошный вопль, глядя на болтающийся на нитке вырванный зуб.
— Скажите ему, Али хан, что так бывает, когда человек моет зубы указательным пальцем правой руки.
Я слово в слово перевел все слуге. Яхья Кули наклонился и поднял зуб.
Но жажда мести Нино еще не была удовлетворена полностью.
— Ты ему скажи, что он еще не вылечился. Пусть пойдет, ляжет в постель и шесть часов держит на зубе что-нибудь горячее. Кроме того, ему неделю нельзя есть сладкого.
Яхья Кули с опущенной головой вышел из комнаты, довольный, что избавился от боли.
— Стыдись, Нино, — сказал я, — ты отняла у бедняги его последнюю радость.
— Так ему и надо, — злорадно сказала Нино и принесла нарды. Ей хоть как-то удалось компенсировать горечь испытанных унижений…
И вот теперь Нино лежала на диване, поглаживая ладошкой мне щеку.
— Али, когда же освободят Баку?
— Наверное, недели через две.
— Целых четырнадцать дней, — вздохнула она. — Целых четырнадцать дней. Я очень соскучилась по Баку и мечтаю, чтобы турки поскорее взяли его. Знаешь, все изменилось. Ты здесь прекрасно чувствуешь себя, а меня каждый день унижают.
— Унижают? Как?
— Они все обращаются со мной так, будто я очень ценная и хрупкая вещь. Какова моя ценность, я точно сказать не могу, но я не хрупкая и, тем более, не вещь. Ты помнишь Дагестан? Там все было совсем иначе. Нет, мне здесь не нравится. Если Баку не освободят в ближайшее время, давай уедем куда-нибудь в другое место. Я не знаю поэтов, которыми здесь гордятся, но знаю, что в день ашура люди здесь бичуют себя цепями и вонзают кинжалы себе в головы. Сегодня все европейцы уезжают из города, чтобы не быть свидетелями этого зрелища. Я ненавижу все это. Я ощущаю себя жертвой некоей злой силы, которая в любой момент может обрушиться на меня.
Ее нежное лицо было обращено ко мне. Взгляд был как никогда глубок и непостижим. Зрачки расширились.
— Ты боишься, Нино?
— Чего? — с искренним удивлением спросила она.
— Некоторые женщины боятся родов.
Лицо ее стало серьезным.
— Нет, я не боюсь. Я боюсь только мышей, крокодилов, экзаменов и евнухов. Но никак не родов. Тогда я и зимой должна была бы бояться насморка.
Я коснулся губами ее прохладных век. Нино встала, зачесала волосы назад.
— Я еду к родителям, Али хан.
Я знал, что на маленькой вилле, где живут Кипиани, полностью нарушаются все законы гарема, однако не мог запретить Нино встречаться с родителями. Сегодня князь принимал своих грузинских друзей и западных дипломатов. Нино будет пить там чай, есть английские сладости и говорить с голландским консулом о Рубенсе и проблемах женщин Востока.
Она уехала. Я смотрел, как карета с зашторенными окнами выехала со двора.
Оставшись один, я вновь стал размышлять о зеленых флажках на карте, пограничных пунктах, закрывших мне путь на родину.
В комнате царил полумрак. Мягкие диванные подушки хранили аромат духов Нино. Я лежал на ковре и, перебирая четки, смотрел на блестевшего на стене иранского льва со сверкающим мечом в лапе. Сознание собственного бессилия и слабости удручало меня. Мне было стыдно прятаться в тени иранского льва, когда мой народ проливает кровь в полях под Гянджой. Я тоже ощущал себя ценной, заботливо оберегаемой хрупкой вещью. Мне, Ширванширу, в будущем было предназначено получить пышный придворный титул и изысканным языком классиков говорить о своих нежных чувствах. Но ведь в этот самый миг мой народ проливает кровь на полях сражений. Безнадежность повергала меня в отчаяние. Со стены скалил зубы иранский лев. Пограничный мост на Араксе был закрыт, а здесь, на иранской земле, не было путей к душе Нино.
Ознакомительная версия.