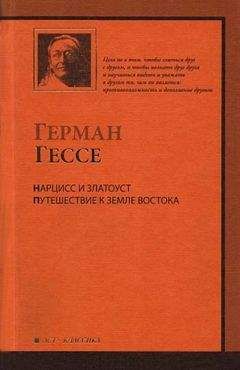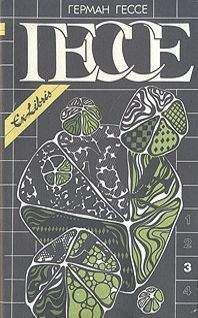Неподалеку была покинутая крестьянская изба, на этот раз без мертвых, так что Гольдмунд предложил было перебраться в нее жить вместо их сруба, но – Роберт в ужасе отказался и с неохотой смотрел, как Гольдмунд вошел в пустой дом, и каждая вещь, которую тот приносил оттуда, сначала окуривалась и мылась, прежде чем Роберт дотрагивался до нее. Немного нашел там Гольдмунд, но все-таки: две табуретки, подойник, немного глиняной посуды, топор, а однажды поймал в поле двух заблудившихся кур. Лене была влюблена и счастлива, и всем троим доставляло удовольствие строить свое маленькое гнездышко и делать его с каждым днем немножко уютнее. Не было хлеба, зато они взяли еще одну козу, нашлось также небольшое поле с репой. День шел за днем, плетеная стена была готова, постели усовершенствованы и построен очаг.
Ручей был недалеко, вода в нем чистая и вкусная. За работой часто пели.
Однажды, когда они все вместе пили молоко и радовались своей домовитой жизни, Лене вдруг сказала мечтательным тоном: «А что же будет, когда придет зима?» Никто не ответил. Роберт засмеялся, Гольдмунд странно смотрел перед собой. Постепенно Лене заметила, что никто не думает о зиме, никто не собирается всерьез и надолго оставаться на одном месте, что дом – никакой не дом. что она попала к бродяге. Она повесила голову. Тогда Гольдмунд сказал ей шутливо и ободряюще, как ребенку: – Ты – дочь крестьянина, Лене, а они беспокоятся наперед. Не бойся, ты опять найдешь дом, когда кончится чума, не вечно же ей быть. Тогда вернешься к родителям, или кто там у тебя еще есть, или пойдешь опять в город в прислуги, и у тебя будет кусок хлеба. Сейчас же лето, а повсюду смерть, и здесь хорошо всем нам. Поэтому мы останемся здесь столько, сколько нам захочется.
– А потом? – крикнула Лене яростно. – Потом все кончится? И ты уйдешь? А я?
Гольдмунд взял ее длинную косу и слегка потянул за нее.
– Милое глупое дитя, – проговорил он, – ты уже забыла прислужников смерти, и вымершие дома, и огромную яму у ворот города, где горели костры?
Ты должна быть рада, что не лежишь там в яме и дождь не льет на твою одежду.
Подумай о том, чего ты избежала, о том, что драгоценная жизнь еще есть в твоем теле и ты можешь смеяться и петь.
Она еще не была довольна.
– Но я не хочу опять уходить, – жаловалась она, – и не хочу отпускать тебя, нет. Нельзя же радоваться, коли знаешь, что все скоро кончится и пройдет!
Еще раз ответил Гольдмунд дружелюбно, но со скрытой угрозой в голосе: – Над этим, малышка Лене, уже ломали головы все мудрецы и святые. Нет счастья, которое длится долго. Если же то, что у нас есть сейчас, для тебя недостаточно и больше не радует, я в тот же час подожгу хижину, и каждый из нас пойдет своей дорогой. Давай-ка по-хорошему, Лене, достаточно поговорили.
На том и остановились, и она сдалась, но тень упала на ее радость.
Еще прежде чем лето успело совсем отцвести, жизнь в хижине пришла к концу иначе, чем они предполагали. Пришел день, когда Гольдмунд долго бродил в округе с пращой в надежде подстеречь кого-нибудь вроде куропатки или другой дичи, еды становилось маловато. Лене была неподалеку и собирала ягоды, иногда он проходил мимо того места и видел сквозь кусты ее голову на загорелой шее, выступающую из льняной рубашки, или слышал ее пение; разок он взял у нее несколько ягод, потом отошел подальше и какое-то время не видел ее больше. Он думал о ней наполовину с нежностью, наполовину сердясь, она опять как-то завела разговор об осени и будущем и о том, что она, кажется, беременна и не отпустит его. Теперь уже скоро конец, думал он, хватит. Скоро я пойду один и Роберта тоже оставлю, попытаюсь до зимы дойти до большого города к мастеру Никлаусу, пробуду зиму там, а следующей весной куплю себе хорошие новые башмаки и двинусь в путь и пройду через все, пока не найду монастыря Мариабронн и не увижусь с Нарциссом, прошло, пожалуй, лет десять, как я не видел его. Я обязательно должен повидаться с ним, хоть на один-два дня.
Какой-то неприятный звук вывел его из раздумий, и вдруг он понял, как далеко зашел во всех своих мыслях и желаниях и был уже не здесь. Он чутко прислушался; тот же жуткий звук повторился, ему покачалось, что он узнал голос Лене, и пошел на него, хотя ему не понравилось, что она звала его.
Вскоре он был достаточно близко – да, это был голос Лене, звавший его по имени в крайней необходимости. Он пошел быстрее, все еще сердясь, но при повторных криках сострадание и озабо ченность взяли верх. Когда он наконец увидел ее, она сидела или упала на колени, в совершенно разорванной рубашке и с криком боролась с каким-то мужчиной, пытавшимся овладеть ею. В несколько длинных прыжков Гольдмунд очутился на месте, всю злость, беспокойство и тревогу, бывшие в нем, обрушил с неистовым бешенством на покушавшегося незнакомца. Он напал на него, когда тот уже совсем было придавил Лене к земле, ее обнаженная грудь кровоточила, незнакомец жадно сжимал ее в объятиях. Гольдмунд бросился на него и яростно сдавил ему руками шею, худую и морщинистую, заросшую свалявшейся бородой. С упоением давил Гольдмунд, пока мужчина не отпустил девушку и не обмяк, ослабев в руках. Продолжая душить, он протащил обессилевшего и полуживого по земле к серым скалистым выступам, голо торчавшим из земли. Здесь он поднял побежденного высоко, несмотря на тяжесть, и два-три раза ударил его головой об острые скалы.
Сломав шею, он отбросил тело прочь, его гнев не был удовлетворен, он мог бы и дальше издеваться над ним.
Сияющая, смотрела на это Лене. Ее грудь кровоточила, и она еще дрожала всем телом и жадно хватала воздух, но вскоре она поднялась, собравшись с силами, и не отрывая глаз, полных наслаждения и восхищения, смотрела, как ее сильный возлюбленный тащил незванего гостя, как душил его, как сломал ему шею и отшвырнул его труп. Подобно убитой змее, лежал труп, обмякший и неловко перевернувшийся, его серое лицо со спутанной бородой и редкими скудными волосами жалко свисало вниз. Торжествуя, Лене выпрямилась и бросилась Гольдмунду на грудь, однако вдруг побледнела, ужас был еще в ее членах, ей стало дурно, и она, изможденная, опустилась на кустики черники.
Но вскоре она уже смогла дойти с Гольдмундом до хижины. Гольдмунд обмыл ей грудь, она была расцарапана, а на одной была рана от укуса зубов негодяя.
Роберт очень взволновался происшествием, горячо расспрашивал о подробностях борьбы.
– Сломал шею, говоришь? Великолепно! Гольдмунд, а тебя надо бояться.
Но Гольдмунд не желал больше говорить об этом, теперь он остыл, а отходя от убитого, подумал о бедном грабителе Bикторе и о том, что от его руки погиб уже второй человек. Чтобы отделаться от Роберта, он сказал: «Ну теперь и для тебя есть дело. Сходи туда и смотри, чтобы труп был убран. Если слишком трудно вырыть для него яму, надо оттащить его в камыши к озеру или хорошо засыпать камнями и землей». Но это удивительное требование было отклонено, с трупом Роберт ни за что не хотел иметь дело, никто ведь не знал, нет ли в нем чумной заразы.
Лене прилегла в хижине. Укус на груди болел, однако скоро она почувствовала себя лучше, опять встала, развела огонь и вскипятила вечернее молоко; у нее было очень хорошее настроение, но ее рано отослали в постель.
Она послушалась, как ягненок, настолько была в восхищении от Гольдмунда. Он же был молчалив и мрачен: Роберт знал, что это, и оставил его в покое. Когда поздно вечером Гольдмунд в темноте нащупал свое соломенное ложе, он, прислушиваясь, наклонился к Лене. Она спала. Он чувствовал себя беспокойно, думал о Викторе, тревожился и испытывал желание уйти; он знал, что играм в домашнюю жизнь пришел конец. Но одно делало его особенно задумчивым. Он поймал взгляд Лене, как она смотрела, когда он тащил мертвого парня и отбросил его. Странный это был взгляд, он никогда не забудет его: из расширенных от ужаса и восхищения глаз сияла гордость, триумф, глубокое страстное сопереживание наслаждения местью и убийством, который он никогда не видел и не подозревал увидеть в женском лице. Если бы не этот взгляд, думалось ему, он, возможно, позднее с годами забыл бы лицо Лене. Этот взгляд делал ее крестьянское лицо величественным, прекрасным и страшным. Уж сколько месяцев его глазам не представлялось ничего, что озарило бы его желанием: это нужно бы нарисо вать! Тот взгляд дал ему опять почувствовать с некоторого рода ужасом трепет этого желания.
Так как он не мог заснуть, то в конце концов встал и вышел из хижины.
Было прохладно, ветер слегка играл в березах. В темноте ходил он взад и вперед, потом сет на камень и сидел, погруженный в раздумья и глубокую печаль. Ему было жаль Виктора, ему было жаль того, кого он убил сегодня, ему было жаль утраченной невинности и детскости своей души. Для того ли ушел он из монастыря, оставил Нарцисса, обидел мастера Никлауса и отказался от прекрасной Лизбет, чтобы поселиться здесь в роще, подстерегать заблудший скот и убить там на камнях этого бедного парня? Был ли во всем этом смысл, стоило ли это переживать? Сердце сжималось от бессмыслицы и презрения к самому себе. Он опустился на землю, лег, вытянувшись, на спину и устремил взор в бледные ночные облака, долго лежал он в оцепенении, а мысли проходили перед ним; он не знал, смотрит ли он в облака на небе или в печальный мир собственной души. Вдруг в момент, когда он засыпал на камне, появилось, сверкнув будто зарница в бегущих облаках, огромное лицо, лицо Евы, взгляд был тяжелый и хмурый, но глаза вдруг широко раскрылись, огромные глаза, полные сладострастия и кровожадности. Гольдмунд проспал, пока роса не намочила его.