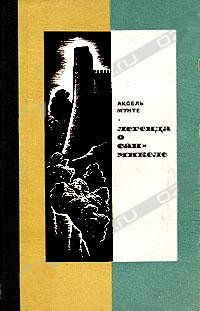— В вашем распоряжении сорок восемь часов, — сказал я и оставил мадам Рекэн ее мыслям.
Утром на второй день меня посетил достойный супруг мадам Рекэн, отдал мне квитанцию на заложенную брошь и сообщил название трех нормандских деревень, куда мадам Рекэн в тот год отправляла порученных ей младенцев. Я тотчас же послал мэрам указанных деревень просьбу выяснить, нет ли среди местных приемышей голубоглазого мальчика примерно трех лет. После долгого ожидания два мэра ответили отрицательно, а третий вообще не ответил. Тогда я написал трем кюре этих деревень, и через несколько месяцев кюре Вильруа сообщил мне, что у жены сапожника живет мальчик, отвечающий моему описанию. Его прислали из Парижа три года назад, а глаза у него несомненно голубые.
Мне еще не приходилось бывать в Нормандии; близилось рождество, и я решил, что могу позволить себе маленький отпуск. В сочельник я постучал в дверь сапожника. Не получив ответа, я без приглашения вошел в темную каморку, где у окна стоял низкий рабочий стол; на полу валялись рваные, грязные сапоги и башмаки всех размеров, а на веревке под потолком сушились рубашки и нижние юбки. Простыни и одеяла неоправленной кровати были неописуемо грязны. На каменном полу зловонной кухни сидел полуголый мальчик и ел сырую картофелину. Его голубые глаза испуганно взглянули на меня, он уронил картошку, инстинктивно поднял худые ручонки, словно защищаясь от удара, и быстро пополз в соседнюю комнату. Я поймал его в ту минуту, когда он уже забирался под кровать, и посадил на стол, чтобы посмотреть его зубы. Да, мальчику было около трех с половиной лет. Это был маленький скелет с худыми руками и ногами, впалой грудью и вздутым животом. Он неподвижно сидел у меня на коленях и не издал никакого звука, даже когда я скрывал ему рот, чтобы осмотреть зубы. Его усталые безрадостные глаза были такими же голубыми, как у меня. Дверь распахнулась, и со страшными ругательствами в комнату ввалился сапожник, мертвецки пьяный. Позади него на пороге, оцепенело глядя на меня, стояла женщина с младенцем в руках; за ее юбку цеплялось еще двое малышей. Сапожник, подкрепляя свои слова бранью, заявил, что будет рад отделаться от мальчишки, но пусть сначала заплатят причитающиеся ему деньги. Он много раз писал мадам Рекэн, но так и не получил ответа. Не воображает же она, что он будет кормить этого крысенка на свой тяжкий заработок? Его жена сказала, что теперь у нее есть собственный ребенок и еще двое на воспитании и она охотно отдаст мальчика. Она что-то шепнула сапожнику, и оба стали внимательно изучать мое лицо и лицо ребенка. Едва они вошли, как в глазах мальчика вновь появился испуг и ручонка, которую я держал, задрожала. К счастью, я вовремя вспомнил, что приеду сюда в сочельник — теперь я вытащил из кармана деревянную лошадку и протянул ее малышу. Он взял ее молча, с недетским безразличием.
— Посмотри, — сказала жена сапожника, — какую красивую лошадку привез тебе из Парижа твой папа. Посмотри же, Жюль!
— Его зовут Джон, — сказал я.
— Он всегда куксится, — объяснила женщина. — Он ничего не говорит. Даже «мама» не говорит и никогда не улыбается.
Я завернул его в мой плед и пошел к кюре, который был так любезен, что послал свою экономку купить шерстяную рубашку и теплый платок для нашего путешествия.
Он внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Как пастырь, я должен бичевать и наказывать безнравственность и порок, но не могу не сказать вам, мой юный друг, что вы поступаете достойно, стараясь хотя бы искупить свой грех — грех тем более отвратительный, что кара за него падает на невинных детей. Его давно следовало бы забрать отсюда. Я схоронил здесь десятки этих бедных, брошенных детей, и скоро мне пришлось бы похоронить и вашего сына. Вы поступили хорошо, и я благодарю вас! — закончил старик, похлопав меня по плечу.
Мы опаздывали к парижскому ночному экспрессу, и времени для объяснений не было. Джон спокойно проспал всю ночь, укутанный в теплый платок, а я сидел рядом, размышляя, что мне с ним делать дальше? Если бы не мамзель Агата, я с вокзала наверное отвез бы его прямо на авеню Вилье. Вместо этого я отправился на улицу Сены в приют Святого Иосифа к монахиням, которых я хорошо знал. Они обещали взять мальчика на сутки, пока не удастся подыскать для него что-нибудь подходящее. Они могли рекомендовать мне очень приличную семью — муж работает на норвежском маргариновом заводе в Пантене, и они только что потеряли единственного ребенка. Это предложение мне понравилось я тотчас же туда поехал, и на следующий день мальчик был уже устроен в своем новом доме. Жена рабочего показалась мне неглупой и хозяйственной женщиной; судя по выражению ее лица, она была довольно вспыльчива, однако монахини заверили меня, что о своем ребенке она заботилась с истинной самоотверженностью. Она получила деньги для экипировки мальчика и вперед за три месяца — сумму меньшую, чем я тратил на папиросы. Я решил не давать ей моего адреса — одному богу было известно, что могло произойти, проведай мамзель Агата о существовании Джона. В случае необходимости — например, если бы мальчик заболел — Жозефина должна была сообщить об этом монахиням. К сожалению, такой случай представился очень скоро. Джон заболел скарлатиной и чуть не умер. Скарлатина свирепствовала в квартале Пантен среди детей скандинавских рабочих, и мне приходилось бывать там постоянно. Детям, больным скарлатиной, нужны не лекарства, а лишь заботливый уход и игрушки, так как выздоровление тянется долго. У Джона было и то и другое — его приемная мать, казалось, была очень добра к нему, а я уже давно включил куклы и лошадки в мою фармакопею.
— Он какой-то странный! — жаловалась Жозефина. — Он не говорит «мама», никогда не улыбается, — он не улыбнулся, даже когда вы прислали ему Санта-Клауса.
Дело в том, что уже вновь наступило рождество — мальчик провел у своей новой приемной матери целый год, для меня полный забот и труда, для него сравнительно счастливый. Жозефина действительно оказалась очень вспыльчивой и нередко дерзила мне, когда я делал ей выговор за то, что мальчик ходит грязный или за то, что она никогда не открывает окна. Но я ни разу не слышал, чтобы она сказала грубое слово ребенку, и хотя вряд ли он к ней привязался, но по его глазам я видел, что он ее не боится. Он оставался непонятно равнодушным ко всем и ко всему. Постепенно я начал все больше тревожиться из-за него и совсем утратил доверие к его приемной матери. Взгляд Джона снова стал испуганным, и было легко заметить, что Жозефина заботится о нем все меньше и меньше. У меня с ней происходили частые стычки, которые обычно кончались тем, что она сердито требовала, чтобы я забрал его, если я чем-то недоволен, а ей он давно надоел! Я без труда догадался о причине этой перемены: Жозефина готовилась стать матерью. После рождения ее собственного ребенка дела пошли еще хуже, и в конце концов Я заявил ей, что заберу мальчика, как только найду для него что-нибудь подходящее. Наученный горьким опытом, я не хотел ошибиться еще раз.
Несколько дней спустя я вернулся домой перед началом приема и, открыв дверь, услышал гневный женский голос. В приемной с обычным терпением меня ждали многочисленные пациенты. Джон сидел, съежившись, в углу дивана рядом с женой английского священника. Посреди комнаты стояла Жозефина, что-то выкрикивала и отчаянно жестикулировала. Увидев меня в дверях, она бросилась к дивану, схватила Джона и буквально бросила его мне. Я едва успел подхватить мальчика на руки.
— Где уж мне ходить за барчонком, вроде вас, господин Джон! — завопила она. — Поживи теперь у доктора, а мне надоели его попреки и вранье, будто ты сирота. Стоит посмотреть на твои глаза, и сразу видно, кто твой отец!
Она откинула портьеру, чтобы выбежать вон, и чуть не споткнулась о мамзель Агату, которая так посмотрела на меня своими белесыми глазами, что я прирос к полу. Жена священника поднялась с дивана и выплыла из комнаты, не забыв подобрать юбки, когда проходила мимо меня.
— Возьмите, пожалуйста, мальчика в столовую и побудьте с ним, пока я не приду! — сказал я мамзель Агате.
Она возмущенно вытянула руки, как будто отстраняя что-то нечистое, щель под ее крючковатым носом растянулась в ужасной улыбке, и она исчезла вслед за супругой священника.
Я сел за завтрак, дал Джону яблоко и позвонил Розали.
— Розали, — сказал я, — возьмите деньги, купите себе бумазеевое платье, два белых передника и вообще все, что нужно, чтобы иметь приличный вид. С нынешнего дня вы получаете повышение и будете нянькой этого мальчика. Сегодня он переночует у меня в спальне, а с завтрашнего дня вы с ним будете спать в комнате мамзель Агаты.
— А как же мамзель Агата? — спросила Розали, бледнея от страха.
— Мамзель Агате я откажу от места, как только кончу завтракать.
Я отослал своих пациентов и направился к комнате мамзель Агаты. Дважды я поднимал руку, чтобы постучать, и дважды опускал ее. Я так и не постучал. Я решил, что будет разумнее отложить разговор до вечера, когда мои нервы несколько успокоятся. Мамзель Агаты не было ни слышно, ни видно. Розали приготовила на обед прекрасное тушеное мясо и молочный пудинг, которым я поделился с Джоном, — все француженки ее сословия хорошие кухарки. Успокоив свои нервы двумя-тремя лишними рюмками вина, я пошел к двери мамзель Агаты, все еще дрожа от гнева. Стучать я не стал. Я вдруг сообразил, что разговор с ней сейчас обеспечит мне бессонную ночь, а я настоятельно нуждался в том, чтобы выспаться. Было куда лучше отложить это свидание до утра.