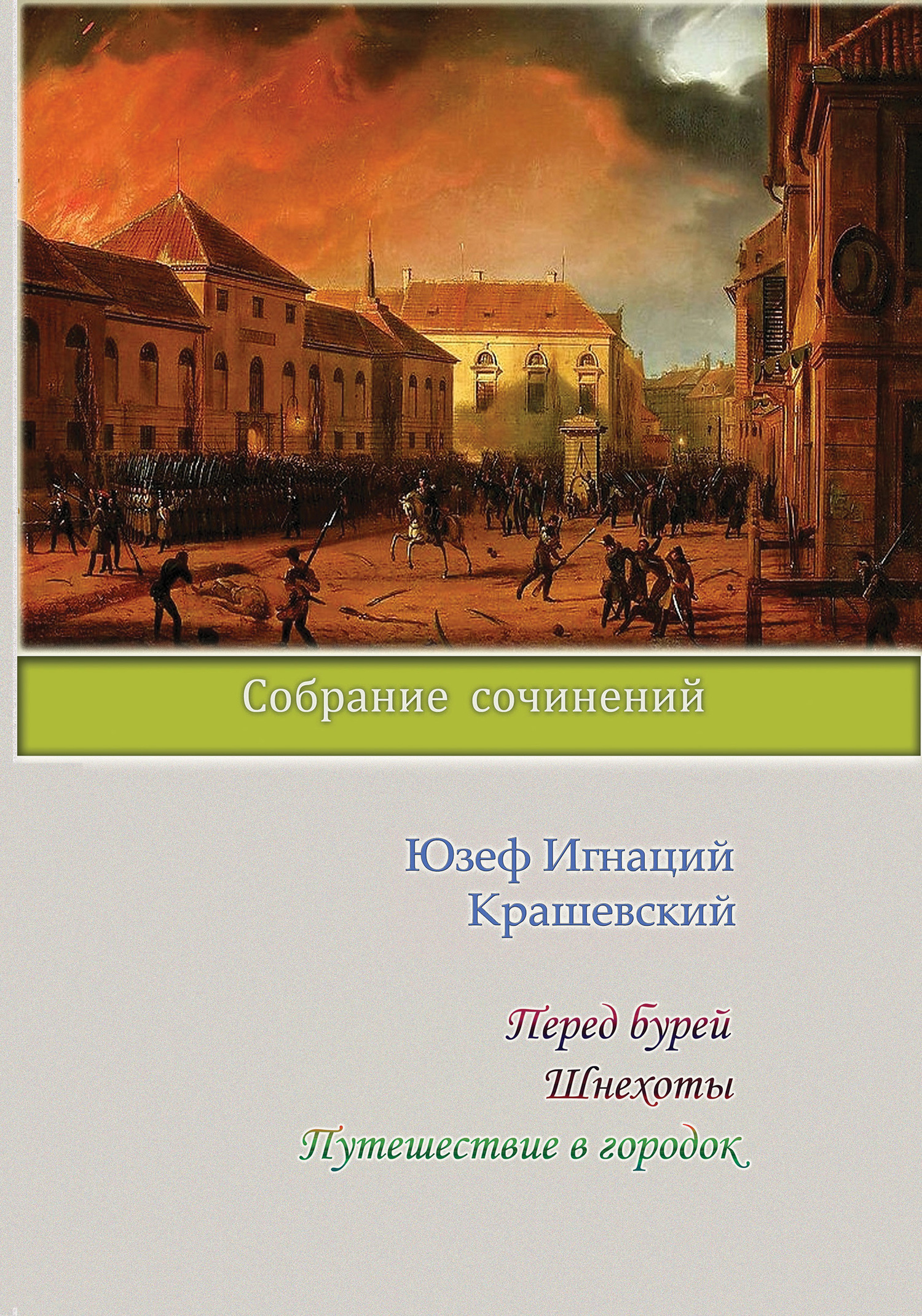сердцем, благородством характера, простотой и искренностью больше, чем очарованием.
Как только раны начали заживать, Каликст не мечтал, не говорил ни о чём, только о вступлении в войска. Подошёл час, когда нужно было оставить дом; Юлия украдкой плакала, а задержать его не смела. Любовь, так странно начатая, так жестоко прерванная, возрождённая среди страданий, волнений, общего воодушевления и экзальтации, которые влияли на развитие чувств, – имела также черты той минуты, свойственное ей пятно. Не была это обычная любовь спокойных дней жизни, нормального режима, но страсть, которую революционное солнце позолачивало и распаляло.
Когда Каликст пожелал идти на войну, Юлия не сказала ни слова, к этой жертве была готова – он любил, но чувствовал, что должен был рискнуть жизнью в жертву родине. Подошла минута расставания, Калист мужественно пожал ей руку, а, увидев слёзы на глазах, сделал весёлую мину Юлия улыбнулась ему сквозь слёзы.
– Иди, – сказала она, – задерживать не годится, не могу и не хочу. Верю в Провидение, я фаталистка: что должно стать, то станет, что предназначено, то неизбежно. Помни, что я живу тобой, в тебе и что, хоть нас обет не соединил, я чувствую себя связанной и останусь тебе верной навсегда. Знаю и верю, что сдержишь мне слово.
Слёзными глазами они поглядели друг на друга. Каликст вышел, она упала на стул и потихоньку молилась. Война! Страшное слово! Это прощание могло быть последним. Оба это чувствовали. Скромно одетая, в четырёх стенах дома, Юлия жила уже только известиями с поля боя. Несколько раз Каликст появился посланцем в Варшаве, здоровый, весёлый, загорелый, воспламенённый и наилучших надежд.
Спустя несколько месяцев после последнего пребывания Юлия получила от него письмо. Он был легко ранен, хотел прибыть для лечения в Варшаву. Порезан был, как писал, палашом в руку русским драгуном, а хотя рана не была угрожающей, требовала продолжительного лечения. На эту новость и старый майор появился в Варшаве. Он был горд своими обеими сыновьями. Приехал прямо к Юлии, которая его как отца приняла.
Приехал Каликст, немного бледный, с рукой на перевязи, но весёлый и счастливый. Рана была гораздо более тяжёлой, чем казалась сразу, палаш достал до кости, перерезал сухожилия, нужно было долго лечиться.
– Отец, – сказал он, – чтобы за мной было, кому ухаживать, не время ли пожениться? Ведь ты ничего не имеешь против этого?
– А женись, женись, – отпарировал старик, – хотя такому инвалиду… жена не впору. Но если ей охота принять на себя обязанности сестры милосердия, благословлю охотно.
Божецкий, который был теперь лекарем при главном госпитале, пожелал взять отпуск и отправиться за границу. Жена должна была присматривать за доблестным капитаном, потому что он дослужился до этой степени!
Тихонько утром в костёле Св. Креста состоялось бракосочетание, которое совершил отец Порфирий в присутствии майора, брата молодого пана и щуплой горстки приятелей. Через несколько дней потом молодые вместе с тётей Малуской поехали на отдых в Дрезден. Там их поразила страшная весть о взятии Варшавы, которой никто сначала верить не хотел – пока прибывающие с родины толпами добровольные изгнанники её не подтвердили.
Каликст и жена его уже не вернулись на родину, остались в том грустном изгнании, которое и их счастье в самом расцвете отравило, и много других жизней и судеб обрекла на могилу.
Ноинская, когда всё кончилось, а пророчество Дыгаса практически сбылось, потеряла охоту и вкус к жизни. В алькове проводила дни, молчащая, иногда только её уста открывались, со слезами рассказывая о пережитых минутах, которыми её память очень дорожила.
Всё в её убеждении испортили предательство, нечестивость и деньги. О французах и англичанах не могла вспоминать без содрогания. Конфедератку Фрицка спрятали в сундук, а портрет Килинского повернули к стене, покрыв его святым Антонием, под которым о другом никто не догадывался. Ноинский хотел его сжечь, мастерова это не позволила.
Ёзек пал под Гроховом, Матусова не на много его пережила. Мацек Вихрь, тот четвертак из деревни пана майора, отлично бился в течении всей войны, пули его счастливо облетали, имел простреленный плащ, продырявленную шапка, спину и голову унёс целыми. Только под Фишау, когда дали огня по бедным четвертакам, чтобы их натолкнуть на лоно законной власти, Мацек был ранен. Со завязанной рукой он попал в Тобольск, а потом в гарнизонную команду. Там, дожив как-то до 1841 года, получил отставку и – как сам говорил – в награду за службу плащ, но без пуговиц. Больше тринадцати месяцев путешествуя пешком, в конце концов он дошёл до Моргова и у порога отдал отчёт грустно охрипшим голосом. Едва его узнал старый майор, который немного оглох и жаловался на здоровье. Приняли его сердечно, задерживая в усадьбе. Сразу на следующий день пошёл искать давнюю свою наречёную, Ягну, которая как раз овдовела год назад, и, хорошо подумав, – женился на её дочке. Ягна была для него уже слишком старой, а Мацек имел все качества и изъяны четвертаков: любил старую водку, предпочитал молодых женщин. Майор хотел его привести в себя, что возраст наречёной казался ему для седеющего солдата не слишком подходящим.
– Будто вы не знаете, пан майор, – сказал он, – как эти бедные женщины быстро стареют. Через пару лет, увидите, будет такая баба, аж страх… И пошли к алтарю. О дальнейших их судьбах история умалчивает.
Конец
1876
Шнехоты
Легенда из ХVIII века, списанная с повествования. Времена Станислава Августа
I
Корчма называлась «Баба». Особенность этого названия никто не мог документально подтвердить; никто не помнил, когда оно ей было дано. В околице утверждали, что она стояла у леса с незапамятных веков, а эконом Розвадовшчизны, которой принадлежала, человек умный и начитанный, который охотно заглядывал в книжку, когда ничего иного для чтения не имел, ручался, что на большой карте трёхсотлетней давности она уже была обозначена: Taberna, quae vulgo dicitur Baba [21].
Корчмар, который её держал, со своей стороны уверял, что предки его сотни лет владели этой «Бабой» и водку в ней продавали. Это так же очень могло быть, потому что на десять миль вокруг знали Аарона Кохн как человека богатого, влиятельного, ловкого и с незапамятных времён связанного отношениями с этой частью Полесья; а известно, что только камень, лежащий на месте, обрастает.
Старая это «Баба» выглядела также немолодо и не искушала вовсе достойной фигурой. Было это огромное здание, потому что сарай, к нему припёртый, неизмерно его увеличивал, с высокой и покрытой мхом крышей, со столбами, когда-то искусно инкрустированными у въезда, вмещающее в себя не только конюшни и сараи для карет на каких-нибудь двадцать фурманок, но обширную шинковную избу, гостиную комнату и весь апартамент для семьи Аарона.
Потолок в шинке от горевшей лучины, дыма