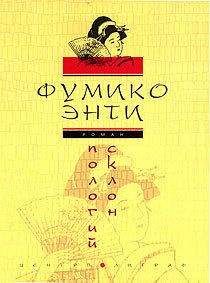— Самый большой стог может вот-вот развалиться, — сообщила мать. — Наши все там, стараются закрепить сено получше. Нет, ну надо же, какой ветрище на нашу голову!
Стихия действительно разыгралась. Когда Долли спустилась вниз, то с большим трудом смогла выйти на крыльцо. Небо до самого горизонта приобрело зловещий медно-желтый оттенок, над головой завывал в бесовской злобе ветер, стремясь разметать по кусочкам сгрудившиеся в кучу в своем беспорядочном бегстве облака. На ближнем к дому поле фермер Фостер вместе с тремя или четырьмя работниками с помощью жердей и веревок пытался закрепить длинный высоченный стог. Простоволосые, с развевающимися по ветру бородами, метались они вокруг в почти безнадежной попытке спасти сено. Задержав на мгновение взгляд на этой сцене, Долли наклонила голову, пригнула плечи и решительно зашагала против ветра наискосок через поля, придерживая одной рукой соломенную шляпку на голове.
Рабочим местом Адама Уилсона был строго определенный участок на ближнем к ферме склоне мелового карьера. Туда-то и направила свои стопы девушка. Адам издалека заметил изящную, стройную фигурку с хлопающими на ветру юбками и вьющимися шляпными ленточками и сразу пошел навстречу, забыв даже положить на место белый от мела тяжелый лом, который так и остался у него в руке. Впрочем, следует признать, что молодой человек отнюдь не спешил, всем своим видом изображая несправедливо обиженного и избегая встречаться с девушкой взглядом.
— Доброе утро, мисс Фостер.
— Доброе утро, мистер Уилсон. Между прочим, если вы все еще сердитесь на меня, я думаю, мне будет лучше вернуться домой.
— Я вовсе не сержусь, мисс Фостер. Напротив, я чрезвычайно польщен, что в такую погоду вы сочли возможным заглянуть сюда.
— Я только хотела сказать вам… Я хотела попросить прощения за вчерашнее. Я, наверное, обидела вас вчера, но поверьте мне, Адам, у меня и в мыслях не было насмехаться над вами. Честное слово! Это у меня просто такая манера разговаривать, вы же знаете. А если вы на меня больше не сердитесь, то это очень благородно и великодушно с вашей стороны.
— Боже! О чем вы говорите, Долли! — воскликнул Адам, засиявший от радости при таком повороте дел. — Да если бы я не любил вас так сильно, стал бы я волноваться из-за того парня? Какое мне дело, что он там говорит или чем занимается? Если бы только мне твердо знать, что для вас я значу больше, чем он…
— Но это так, Адам.
— Благослови вас Господь, Долли, за ваши слова! Если бы вы знали, какую тяжесть сняли с моего сердца! Послушайте, сегодня мне необходимо уехать в Портсмут по делам фирмы, но завтра вечером я к вам обязательно приду.
— Очень хорошо, Адам. Я буду ждать… Боже! Что там такое?!
Со стороны фермы донесся душераздирающий треск и грохот, затем послышались отчаянные крики людей.
— Стог обрушился, и кого-то задавило! — воскликнула Долли и, не сговариваясь, молодые люди бросились бегом вниз по склону к месту происшествия.
— Папа! Папочка! — задыхаясь, кричала на бегу девушка.
— С ним все в порядке! — крикнул в ответ ее спутник. — Я вижу его. Лежит кто-то другой. Они поднимают его. А вон кто-то еще бежит, как сумасшедший. За доктором, должно быть.
Бегущий батрак поравнялся с Адамом и Долли.
— Не ходите туда, мисси, — закричал он, — не стоит вам смотреть на раненого.
— Кто ранен?
— Это Билл. Когда стог начал падать, его задело опорной жердью, да так неудачно — прямо по хребту. Сдается мне, он уже помер, а ежели не помер, то протянет недолго. А меня послали за доктором Стронгом, — с этими словами он вновь пригнул голову и ринулся дальше по дороге.
— Бедный Билл! Слава Богу, что это не отец!
Молодые люди как раз добрались до границы поля, на котором произошел несчастный случай. Обвалившийся стог раскинулся по земле бесформенной грудой, из которой торчала длинная толстая жердь, прежде поддерживавшая брезент, которым стог покрывали на случай дождя. Четверо мужчин мелкими шажками продвигались к дому, таща на полусогнутых плечах импровизированные носилки с пятым. Предсмертная бледность не смогла смыть краску глубоко въевшегося в его лицо загара, и со стороны казалось, будто это и не человек вовсе, а большой ком земли, которую он всю жизнь обрабатывал. Раненый не шевелился и переносил муки безмолвно, с тупой покорностью вьючного животного. Та же покорность судьбе читалась во взгляде несчастного, устремленном в пространство из-под полуприкрытых век. Дышал он неровно, но ни крика, ни стона не срывалось с побелевших губ. Было что-то нечеловеческое, почти животное, в этой абсолютной пассивности. За всю свою жизнь он не встретил сочувствия у окружающих и не искал его и теперь, на пороге смерти, больше напоминая в эти минуты сломанный инструмент, чем человеческое существо.
— Могу я чем-нибудь помочь, отец?
— Нет, девочка моя. Да и не место тебе здесь. Я уже послал за доктором — скоро прибудет, наверное.
— Куда его несут?
— На сеновал, где он обычно спит.
— Я считаю, что его следует перенести в мою спальню, папочка.
— Что ты, дочка! Лучше уж не вмешивайся в это дело.
Как раз в этот момент носильщики проходили мимо, и раненый услыхал великодушное предложение девушки.
— Большое спасибо вам, мисси, — прошептал он, словно обретя на мгновение жизненные силы, но тут голова его безжизненно откинулась, и бедняга снова вернулся в прежнее состояние полного ступора.
Работник на ферме — человек полезный, но что прикажете делать с батраком, у которого поврежден позвоночник и сломана половина ребер? Фермер Фостер долго качал головой и чесал в затылке, выслушав приговор врача.
— Так вы говорите, док, что ему уже не поправиться?
— Да.
— Тогда нам, наверное, следует отослать его.
— Куда?
— В больницу при богадельне, откуда мы взяли его аккурат одиннадцать лет назад. Вроде как домой парень вернется.
— Боюсь, скоро он отправится намного дальше, — серьезно сказал доктор Стронг. — Но как бы то ни было, сейчас больного никак нельзя перемещать. Придется ему остаться здесь, пока не поправится или…
Пока все шло к тому, что оправдается вторая, невысказанная доктором, часть прогноза. Билла поместили на небольшом сеновале над конюшней. Он лежал неподвижно, распростертый на деревянном топчане, покрытом тощим голубым соломенным тюфяком. Взор его был устремлен в потолок, где на вбитых в стропила крючьях висели седла, конская упряжь, старые косы и еще масса разнообразных предметов, имеющих обыкновение, подобно летучим мышам, скапливаться именно на чердаках. Чуть ниже, на двух крючках, висел незамысловатый гардероб самого Билла, состоящий из двух рубах, синей и серой, покрытых пятнами штанов и заляпанной грязью куртки. В головах у раненого стояла старая силосорезка, а рядом с ней был свален огромный ворох ботвы. Он лежал тихо, никого не беспокоя, ни к кому не обращаясь, ни на что не жалуясь, и только взгляд его, неотрывно устремленный на крохотный клочок голубого неба в узком чердачном окошке, казалось, вопрошал Господа, почему Тот сотворил этот мир таким непонятным и несправедливым.
Ухаживать за раненым приставили пожилую женщину, жену одного из работников фермы, так как врач наказал, чтобы его ни на минуту не оставляли одного. Она крутилась вокруг топчана, разбирая и перекладывая с места на место всякий хлам, и бурчала себе под нос что-то невразумительное, словно жалуясь на свое неблагодарное и скучное занятие. На несущей балке стояли несколько полуразбитых горшочков с цветами, которые она заботливо разместила на деревянном упаковочном ящике, стоящем рядом с изголовьем больного. Билл лежал неподвижно, только при вдохе и выдохе из груди его доносился неприятный скрежещущий звук. Однако он с некоторым интересом следил за каждым движением сиделки, а однажды даже улыбнулся, когда та расставляла горшочки с цветами.
Еще раз губы раненого тронуло улыбкой, когда он услышал, как миссис Фостер и ее дочь интересуются состоянием его здоровья. Они как раз вернулись с почты, куда ходили вместе и где мисс Фостер отправила весьма тщательно составленное письмо, адресованное мистеру Элиасу Мейсону, эсквайру. В этом письме юная леди вежливо сообщала вышеупомянутому джентльмену, что уже нашла себе достойного спутника жизни, в связи с чем достопочтенный м-р Мейсон может не затруднять себя назначенным для получения ответа субботним визитом. По возвращении обе дамы заглянули в конюшню и, не поднимаясь на сеновал, спросили сиделку, как себя чувствует Билл. Но даже с того места, где они стояли, слышно было ужасное хрипение от дыхания страдальца. Долли почти сразу убежала прочь, побледнев до такой степени, что даже ее многочисленные веснушки слегка побелели. Ничего удивительного — она была еще очень молода и плохо подготовлена к тому, чтобы без содрогания воспринимать наиболее отвратительные детали переносимых ближним мучений, хотя этому «ближнему» было на год меньше, чем ей самой, и он, несмотря на невыносимую боль, все же находил в себе силы сдерживаться и мужественно смотреть прямо в глаза приближающейся смерти.