— Ты ведь не отдашь меня обратно? Ведь я у тебя живу уже долго?
— Отдать тебя обратно?
— Да, но ведь я уже большой, и аисту меня не унести.
Матушка опустилась на колени подле моей кроватки; теперь дица наши были рядом, и стоило мне заглянуть в ее глаза, как от страха, неотступно преследовавшего меня, не осталось и следа.
— Глупенький! Ну кто тебе сказал такую глупость? — спросила матушка, гладя мои ручонки; я обнял ее еще крепче.
— Мы с няней говорили об очень серьезных вещах, — ответил я, — и она сказала, что ты могла бы без меня обойтись. — Теперь мне почему-то не хотелось передавать ей весь наш разговор; теперь мне было ясно, что миссис Ферси просто пошутила.
Матушка обняла меня еще крепче.
— И ты ей поверил?
— Понимаешь, я появился на свет в самый неподходящий момент; у тебя тогда и своих забот хватало.
Матушка улыбнулась, но тут же нахмурилась.
— А я и не знала, что ты задумываешься о таких вещах, — сказала она. — Надо бы нам, Пол, почаще бывать вместе. Сядем рядком, и ты расскажешь все, что у тебя на душе; няне-то, боюсь, тебя не понять. Да, верно, забот у нас тогда хватало, в дом постучалась беда.
Но что бы я делала без тебя — не знаю. Мне было очень плохо, и, чтобы меня утешить, Господь послал тебя. Если бы не ты, того горя я не пережила бы. Такое объяснение меня вполне устраивало.
— Так, значит, тебе повезло, что меня принесли? — спросил я. И опять матушка засмеялась, и опять тут же посуровело ее детское личико.
— Постарайся запомнить все, что я тебе сейчас скажу, и она стала такой серьезной, что я тотчас проникся торжественностью момента и принял сидячее положение.
— Обязательно запомню, — ответил я. — Хотя память у меня никудышная.
— Ну, это тебе наврали, — улыбнулась матушка. — Нужно лишь понять, что тебе хотят сказать, тогда уж ни за что не забудешь. Самое главное, чтобы у тебя все получалось, — и сейчас, и когда вырастешь. Тогда я буду самой счастливой матерью на свете. Если же ты ничего в жизни не добьешься, то мне будет больно. Ты станешь взрослым, я умру, но и тогда не забывай мои слова. Хорошо, Пол?
Разговор был весьма серьезным, и я дал обещание стараться; и хотя сейчас, вспоминая те два серьезных детских личика, я улыбаюсь, понимая, что особенно хвастать мне нечем, но все же замечу, что не пообещай я тогда матушке стараться, то не имел бы и того малого, чего удалось добиться.
Тот день оказался критическим — что-то случилось с моей памятью: лицо матери вырисовывается все более отчетливо, а образ миссис Ферси постепенно уходит под воду, будто размытая волнами песчаная коса. Помню, как по утрам светило солнце в запущенном саду; вокруг нас кружатся осенние листья, а мы занимаемся — матушка читает мне книжку. Помню, как в вечерние сумерки мы сиживали у окна, спрятавшись за темно-красными шторами, чтобы нам никто не мешал; мы ведем разговор — почему-то шепотом — о добрых людях, о благородных дамах, о людоедах, колдуньях, святых, нечистой силе. Прекрасные то были дни.
Скорее всего, программа моего образования методически была не продумана — сведения, получаемые мною, были уж слишком обширны и разнообразны; переварить их в том возрасте я не мог. В результате все даты и эпохи перепутались, а исторические факты и вымысел слились воедино — в исторической науке такое допускается, но и там есть свои пределы. Мне не составляло особого труда представить себе, как Афродита, родившись из пены морской, берет лук на изготовку и устремляется на короля Канута,[5] который, восседая на троне, водруженном прямо на 6epeiy, повелевает ей не приближаться, если она не хочет промочить ноги. На лесной полянке мне мерещится король Руф; вот он падает, сраженный отравленной стрелой, выпущенной Робином Гудом; но на помощь ему спешит нежная королева Элеонора, она высасывает яд из раны и спасает королю жизнь. Оливер Кромвель убивает короля Карла и женится на его вдове; но не долго ему ликовать — отважный Гамлет закалывает злодея. Одиссей на «Арго» открывает Америку — это мне запомнилось лучше всего. Ромул и Рем убивают волка и спасают Красную Шапочку, Доблестный король Артур, у которого подгорели пироги, попадает за это в Тауэр, где его убивает собственный дядя. Прометей, прикованный к скале, был освобожден Святым Георгием. Парис вручил яблоко Вильгельму Теллю. Ну и что такого? Материал я усвоил. Разложить его по полочкам — дело нехитрое.
Иногда после обеда мы отправлялись в горы. Мы карабкаемся по крутой извилистой тропке, бегущей через лес по краю бездонной пропасти; мы слышим, как за нами гонится Лесной царь; мы проходим по густым лугам, где по ночам кружатся в хороводе феи; нам то и дело попадаются заросшие колючим кустарником пещеры, в которых обитают жуткие чудовища. И вот, наконец, мы видим вздымающееся под небо море и попадаем на открытую поляну, где высятся развалины башни старого Джекоба. Местные чаще называли ее «Гнездо Джекоба», а некоторые — «Чертовой башней»; была такая легенда, будто бы старый Джекоб, продавший душу дьяволу, частенько встречался здесь со своим хозяином, и они в штормовую погоду зажигали на башне огни, чтобы сбить с толку моряков. Кто такой этот «старый Джекоб», как он построил эту башню, да и зачем — я так и не знаю. Могу сказать лишь одно — поминали его недобрым словом, а рыбаки готовы были побожиться, что по ночам в шторм в заросших плющом амбразурах башни мерцают загадочные огоньки.
Но днем более привлекательного места было не сыскать: зеленый мох перед обвалившимся входом, серый лишайник на каменных глыбах. Взобравшись на плоскую крышу, можно было разглядеть горы, виднеющиеся в призрачной дали, корабли, бесшумно снующие по морской глади и исчезающие за горизонтом; а прямо под тобой лежали возделанные нивы и величаво несла свои воды река.
С тех пор мир как-то сузился и краски его поблекли. Теперь-то я знаю, что ничего такого особенного за этими горами нет — всего лишь задымленные города и убогие деревни; но тогда мне казалось, что за ними скрывается волшебная страна, где в замках живут принцессы, а города все построены из золота. Теперь океан можно пересечь за шесть дней, и кончается он нью-йоркской таможней. А тогда, подняв паруса, можно было по этому океану плыть и плыть, оставляя за собой залитую серебристым светом лунную дорожку, проходя под сводами облаков, низко нависающими над горизонтом, пока наконец не увидишь багряный берег волшебной страны, лежащей по ту сторону солнца. Вот уж не думал я в те дни, что мир может оказаться таким маленьким.
Площадка на верху башни была огорожена; вдоль каменного заборчика шла сплошная деревянная скамья, где мы сиживали с матушкой, прижавшись друг к другу, пытаясь укрыться от ветра, который здесь никогда не утихал; матушка рассказывала мне мифы и легенды, объясняющие устройство мира: выходило, что и земля, и воздух заселены удивительными, не похожими на нас существами — картина мира, весьма далекая от научной. Не скажу, чтобы это пошло мне во вред, скорее на пользу. По большей части это были красивые сказки — такими, по крайней мере они получались в изложении матушки; эти сказки учили любви и состраданию, как и все сказки, что мы читаем — будь то современная поэзия или древние предания. Но в то время я воспринимал их буквально, отнюдь не как произведения изящной словесности; матушка, видя это по моим глазам, спешила добавить: «Но все это, конечно, выдумки, в жизни так не бывает». Впрочем, мы-то с ней знали, что бывает, и когда уже в сумерках возвращались домой по темной тропке, то крепко держались за руки.
Кончилась зима, наступило лето; за летом пришла осень. И вот однажды утром мы с теткой, сидя за столом в ожидании завтрака и смотря в распахнутое окно, увидели, как на дорожке показалась матушка; она прыгала, танцевала, кружилась. В руке она держала письмо; подбежав поближе, она стала размахивать им над головой, припевая:
— Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, — в среду утром!
Она подхватила меня и закружила по комнате.
Тетка, методично жуя бутерброд, заметила:
— Ну что за публика? Не в себе от радости. А чему радуется? А тому, что переедет она из приличного дома в жалкую конуру где-то на задворках Ист-Энда, и будет у нее вместо кухарки и горничной одна прислуга за все.
Местоимение второго лица тетка не признавала, она считала его грамматическим излишеством. Она никогда ни к кому не обращалась, а говорила о присутствующем в третьем лице, так что получалась не беседа, а комментарий. Были тут и свои преимущества — на ее реплики можно было не реагировать, не обращать внимания, не относя их на свой счет, а рассматривая как отвлеченные рассуждения. Так все и поступали, уяснив, что ничего приятного тетка им не скажет; но матушка к безличному обращению так и не привыкла.
— Никакая это не конура! — ответила она. — Это старинный дом, а рядом — Темза!
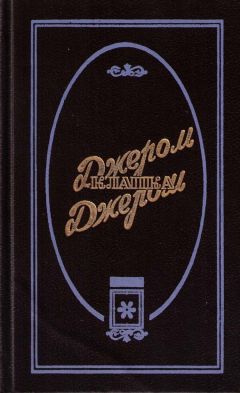
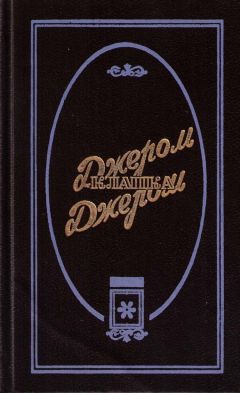


![Мелисса де ла Круз - Ведьмы Ист-Энда. Приквел: Дневники Белой ведьмы[Witches of East End. Prequel: Diary of the White Witch]](https://cdn.my-library.info/books/48380/48380.jpg)
