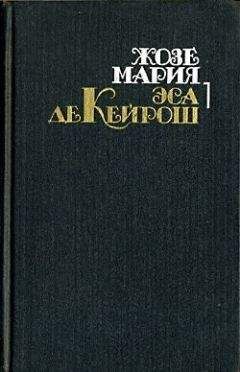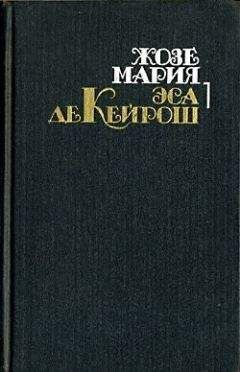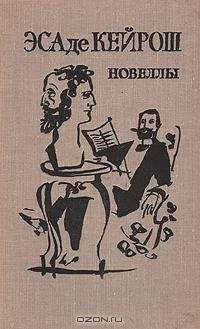Главное же, над чем иронизирует португальский писатель, — столь дорогой католицизму миф о милосердном вмешательстве богородицы в жизнь грешника, спасающей его своим заступничеством из пасти дьявола, миф, воплотившийся в стольких творениях западноевропейской словесности. Кейрош соединяет парадокс Шатобриана с сюжетом о сговоре человека с дьяволом, дарующим ему власть над миром. В «Мандарине» весь «фаустовский» сюжет развивается наоборот. Матерь скорбящая, чей образ на всякий случай берет с собой Теодоро в странствование по Китаю, не спасает героя Кейроша. Впрочем, и дьяволу, как выясняется, до его души нет никакого дела. Весь пафос повести как раз и состоит в отрицании Провидения, в утверждении мысли, что за свои поступки отвечает и расплачивается сам человек, что если уж «жизнь проиграна», то — необратимо.
Жанр повести Кейроша, которую можно было бы назвать не только «аллегорией в духе Возрождения», но и «философской повестью» в стиле Вольтера, предполагает, что в ней не должно быть никакого психологического правдоподобия. Поэтому в самом строении «Мандарина» заключен некий парадокс: книга, написанная в форме повествования от первого лица, ничего не говорит нам о внутреннем мире, о духовной жизни этого «лица». Читателю предлагается поверить герою на слово: поверить и в его раскаяние, и в его «мировую скорбь», и в его страдание, и в завещанную им мораль. Изображение в повести почти сплошь плоскостно, как рисунок, нанесенный на китайской вазе. Но именно почти. В «Мандарине» есть особая глубина, возникающая оттого, что в рассказ Теодоро автор «Мандарина» вкладывает немало и своего, кейрошевского.
Например, свой артистизм, свое умение вживаться в роль. «На мне была темно-синяя парчовая туника с расшитой золотыми драконами и цветами грудью, она застегивалась сбоку… И сколь же теперь все во мне было созвучно одежде, все мои мысли и чувства тут же стали китайскими…» — рассказывает Теодоро. Или — Кейрош? Сохранилась фотография: Кейрош в саду, в кимоно, расшитом драконами. Писатель очень любил этот наряд, любил представлять себя «в роли».
На страницах повести наряду с Китаем «романическим» сушествует и Китай «парнасский», увиденный глазами самого Кейроша, в молодости очень увлекавшегося поэзией а прозой французского «Парнаса». Парнасцы видели в этой стране прибежище искусств, успокоения, мир изысканной фантазии и утонченных удовольствий. И кажется, в тех эпизодах «Мандарина», где повествуется о приятнейших часах, проведенных Теодоро в Пекине, отзываются строки Теофиля Готье:
На этот раз моя любовь в Китае;
Там, у реки, где желтая волна,
В хоромах из фарфора обитает
С родителями важными она…
(«Китайское»)
Но был ведь и Китай реальный. Кейрош успел косвенно с ним соприкоснуться. Во время консульской службы на Кубе новоиспеченный дипломат, полный намерений как можно лучше служить избранному делу, обязан был защищать интересы, китайских наемных рабочих, вывозимых на Кубу испанскими плантаторами из Макао. Кейрош видел, в каких ужасающих условиях, в каком состоянии полного бесправия, на положении настоящих рабов, оказываются китайцы на Кубе. Он засыпал Лиссабон петициями, требовал государственных санкций против Мадрида… Тщетность и бесплодность этих усилий вскоре стала для Кейроша ясна. И когда автор «Мандарина» описывал отчаянные попытки Теодоро улучшить положение народа в Срединной империи, то, конечно же, вспоминал «похождения» португальского консула в Гаване.
И не только над романтической позой смеется Кейрош в «Мандарине», то и дело упоминая о печали, в коей пребывает «недоносок» Теодоро: он смеется над самим собой, над своими попытками отыскать среди «несовершенных творений господа бога» примеры подлинного человеческого совершенства. В этом парадоксальном совпадении авторского мировидения с мировидением далеко не идеального персонажа «Мандарин» очень сходен с «Реликвией», романом, написанным в 1884 году и вышедшим отдельным изданием в 1887-м.
«Реликвия», как и «Мандарин», построена по принципу классического плутовского романа — как повествование от первого лица героя-«плута» (на плутовскую природу Рапозо намекает сама его фамилия: Raposo — порт. лис). То есть, согласно замыслу, и современность, и евангельские сцены должны быть представлены в романе в одном-единственном ракурсе — с «низовой», циничной точки зрения героя.
Но, путешествуя во сне по древнему Иерусалиму, Рапозо неожиданно — и никак не мотивированно — выходит из заданной ему характерологической роли. Ничтожный искатель радостей жизни (их вершина — купленная любовь перчаточницы Мэри) вдруг преображается в древнего благородного лузитанца, наделенного культурой и образованностью европейца XIX века, в человека, сострадающего невинно осужденному бродячему проповеднику, постигающего весь трагизм и все величие происходящего. Так поэтично и вдохновенно рассказать о смерти Иисуса, как это сделано в «Реликвии», претендент на наследство тетушки Патросинио никогда бы не смог. То есть формально о казни Христа в романе повествует Рапозо, а фактически сам автор.
Между обоими произведениями немало и других точек соприкосновения: это и критический пересмотр самих основ католического вероучения, и нравственная индифферентность главного персонажа, связывающего мечты о богатстве со смертью другого человека (сходство героев подчеркивается и совпадением их имен), и амбивалентная развязка. В «Мандарине» Кейрош устами Теодоро, с одной стороны, внушает читателю: «Не убивай мандарина», а с другой — скептически замечает, что если его читатели и не уничтожат всех мандаринов на земле, так только потому, что не у каждого есть под рукой волшебный колокольчик. Теодорико Рапозо к финалу «Реликвии» также переживает обращение и всеми своими поступками стремится доказать тщетность и бессмысленность лицемерных ухищрений. Но с другой… С другой — в последней фразе высказывает вполне «рапозовскую» мысль: он утратил наследство тетушки, потому что «в решительную минуту ему не хватило бесстыдной смелости утверждать невероятное» — выдать ночную рубашку любовницы за сорочку святой Марии Магдалины. Какому же Теодорико читатель должен верить?
* * *
В уже упомянутом споре о романтизме и натурализме, который ведут герои романа «Семейство Майа», один из них утверждает: «Искусство должно стремиться к Идеалу! И потому пусть оно показывает нам лучшие образцы усовершенствованного человечества, самые прекрасные формы бытия, самые прекрасные чувства…» Кейрош — автор «Семейства Майа» во многом следует этому эстетическому кредо: стремится показать «лучшие образцы усовершенствованного человечества» (образы Карлоса, Марии Эдуарды), воссоздать самые прекрасные формы бытия, изобразить самые высокие чувства. Но стремление к Идеалу не может поколебать другого, не менее сильного, начала творчества Кейроша — верности Истине. И тогда оказывается, что «лучшие представители усовершенствованного человечества» — точнее, буржуазно-аристократической верхушки тогдашней Португалии — дилетанты и «бонвиваны», растратившие впустую и свои таланты, и свои познания, и самое свою жизнь; что их «прекрасные чувства» — прикрытие эгоизма, сословных предрассудков и грубой чувственности, что «прекрасные формы бытия» таят в себе гибель и разрушение.
В камерном на первый взгляд сюжете «Семейства Майа» символически воплотилась трагедия целого поколения, поколения «побежденных жизнью» (так назывался кружок лиссабонских интеллектуалов 90-х годов, в который входил Кейрош). Люди, молившиеся на Гюго — «гернсейского изгнанника», мечтавшие о Революции, об уничтожении ненавистного мира буржуа, об общественно полезной деятельности, о народном благе, пришли к концу жизни с ощущением проигрыша. «Мы проиграли жизнь, друг мой!» — подводит итог пережитому Жоан да Эга.
Проблема Кейроша этого времени — та же, что проблема создателя тетралогии «Гибель богов», о которой А. Ф. Лосев писал: «Проблема Вагнера также есть и проблема… трагической гибели всех… чересчур развитых, чересчур углубленных, чересчур утонченных героев индивидуального самоутверждения, проблема гибели всей индивидуалистической культуры вообще»[2]. Роман «Семейство Майа» пронизывает та же «трагическая и космическая интуиция любви, которая приводит каждую индивидуальность к полной и окончательной гибели»[3]. Вот почему Кейрош обращается к древнейшему трагическому мотиву — мотиву инцеста, кровосмесительства: прекрасная любовь новоявленных «богов» Карлоса и Марии Эдуарды оказывается кощунственной любовью: они — разлученные в раннем детстве родные брат и сестра!
Итак, «Семейство Майа» — трагедия? Но если бы в нем присутствовало только трагическое начало, то оно не было бы романом: ведь это — жанр, в котором трагическое соприкасается со смешным. Роман «Семейство Майа» — именно трагическая комедия (а под это определение подходят в той или иной мере все произведения Кейроша). И смех присутствует в «Семействе Майа» во всех его оттенках и проявлениях. Это прежде всего комическое — но не фарсово-карикатурное, а по-диккенсовски утонченное — изображение буржуазно-аристократического Лиссабона, вобравшего в себя всю пошлость (cursi), все уродство португальской жизни периода конституционно-монархического правления. Критико-реалистическое начало творчества Кейроша более всего проявляется в тех эпизодах романа, где описываются жизнь и нравы «верхов» португальского общества: приемы и обеды в доме графа Гувариньо, женатого на дочери разбогатевшего английского коммерсанта; бал-маскарад в особняке банкира Коэна, перед которым пресмыкаются потомки знатных родов, некогда сжигавших предков Коэна на кострах; скачки, на которых присутствует весь «свет» во главе с безликим монархом и которые представляются лишь жалкой пародией на подобные «спортивные» развлечения в «цивилизованных» странах… Продажность, предательство, прелюбодеяние, ложь, грязь сплетен и пересудов, разговоров в Клубе и Гаванском Доме — вот что составляет «духовное» содержание этой жизни. Все ее «добродетели» сконцентрированно воплощены в образе молодого вульгарного толстяка Дамазо Салседе, с языка которого то и дело срываются словечки: «Шик, шикарно!».