То и дело вылезая из саней и осторожно продвигаясь вниз по опасному склону – и лошадь, и человек время от времени скользили на обледенелых ухабах, – я наконец выехал – или ветер вынес меня – на самую большую площадь, сбоку от главного корпуса. Пронзительно и резко дуло из-за угла; как работа красных демонов, кипела в стороне Кровяная река. Пересекая площадь наискосок, стояла длинная поленница, сверкая ледяными доспехами. Вдоль стены фабрики тянулась коновязь, на каждый столб которой с северной стороны налипли лепешки снега. Мороз сковал и словно вымостил площадь каким-то звонким металлом.
И опять перевернутое сходство: спокойный, ласковый сад Темпла, и Темза омывает его зеленые лужайки, подумалось мне.
Но где веселые холостяки?
И тут, пока мы с моим конем стояли, дрожа на ветру, из ближайшего барака выбежала девушка и, накинув на непокрытую голову тонкий передник, двинулась к зданию напротив.
– Минутку, голубушка, нет ли тут какого-нибудь сарая, куда поставить сани?
Она остановилась и обратила ко мне лицо, бледное от усталости, синее от холода; глаза, неестественно расширенные давним горем.
– Нет, – смутился я. – Я ошибся. Беги, беги, мне ничего не нужно.
Я подвел коня к самой двери, из которой она вышла, и постучал. В двери появилась еще одна бледная синяя женщина, вцепившаяся в дверь, чтобы укрыться от сквозняка.
– Нет, я опять ошибся. Ради бога, затвори дверь… постой. А мужчин здесь никаких нет?
В эту минуту какой-то смуглый, тепло укутанный мужчина подходил к дверям фабрики, и девушка, завидев его, быстро прикрыла ту дверь, в которой только что появилась.
– Тут нет сарая для лошади, сэр?
– Вон туда, в дровяной, – отвечал он и исчез за дверью фабрики.
Не без труда мне удалось протолкнуть коня и сани между кучами дров, уже распиленных и наколотых. Потом я накрыл коня попоной, сверх попоны набросил буйволову шкуру и подоткнул ее края под шлею, чтобы ветер не оголил его, затем накрепко привязал и, спотыкаясь, побежал к дверям фабрики, одеревенев от мороза и путаясь в складках тяжелого пальто.
И вот я уже стою в просторном помещении, где невыносимо светло от длинного ряда окон, отбрасывающих внутрь здания снежный пейзаж на улице.
За рядами пустых конторок сидели девушки с пустыми глазами, держа в руках белые папки и складывая чистую бумагу.
В одном углу залы высилось огромное сооружение из железа, и что-то вертикально, как поршень, поднималось и падало на толстую деревянную доску. Перед ним, как послушный его слуга, стояла высокая девушка и кормила железного зверя полудестями розовой почтовой бумаги, которая при каждом поклоне машины получала в одном углу отпечаток в виде веночка из роз. Я перевел глаза с розовой бумаги на бледные щеки, но ничего не сказал.
Сидя перед каким-то длинным аппаратом, в котором, как в арфе, натянуты были длинные тонкие струны, другая девушка кормила его листами писчей бумаги, а чуть они уплывали от нее по струнам, их убирала с другого конца машины другая девушка. К первой эти листы попадали пустыми, к второй уходили разлинованными.
Я глянул на лоб первой из этих работниц и увидел, что лоб этот розов и свеж; глянул на лицо второй и увидел, что он разлинованный и увядший. И пока я смотрел на них, они, чтобы отдохнуть от однообразия, поменялись местами, и там, где только что был юный свежий лоб, теперь был виден разлинованный и увядший.
Высоко на узкой площадке, еще выше, на венчающей ее табуретке, сидела еще работница – она кормила какого-то другого железного зверя, а у подножия площадки сидела ее напарница, готовая ее сменить.
Ни слова здесь не звучало. Ничего не было слышно, кроме низкого, упорного, всевластного урчания железных зверей. Человеческий голос был изгнан отсюда. Машины – хваленые рабы человека – здесь обслуживались людьми, и люди служили им молча и подобострастно, как раб служит султану. Работницы казались даже не дополнительными колесами к машинам, но всего лишь винтиками в этих колесах.
Всю эту картину я воспринял с одного взгляда, еще до того как стал разматывать меховой шарф, защищавший мне горло; не успел я снять его, как смуглый мужчина, стоявший со мною рядом, вскрикнул и, схватив меня за руку выше локтя, вытащил на улицу, без лишних слов подобрал немного смерзшегося снега и стал тереть мне щеки.
– Два белых пятна, как глазные белки, – выговорил он. – Да вы, уважаемый, щеки себе отморозили.
– Вполне возможно, – пробормотал я. – В Чертовой Темнице мороз мог бы проникнуть и глубже. Трите, трите.
Скоро щеки мои стали оживать, и я почувствовал страшную, рвущую боль. Словно их жевали, одна справа, другая слева, две отощавшие гончие собаки. Словно я стал Актеоном.[22]
Когда с этим было покончено, я снова вошел в здание, изложил свое дело и честь по чести обо всем договорился, после чего попросил, чтобы мне показали фабрику.
– Это у нас работка для Купидона, – сказал смуглый мужчина. – Эй, Купидон! – И когда в ответ на это игривое прозвище к нам подошел краснощекий, в ямочках, смышленый и немного развязный на вид паренек, до этого нагловато, на мой взгляд, разгуливавший среди вялых работниц – как золотая рыбка в бесцветных волнах, – но ничем как будто не занятый, – мужчина велел ему поводить незнакомого джентльмена по всему зданию.
– Сначала пойдем смотреть водяное колесо, – сообщил мне сей жизнерадостный юноша, напустив на себя ребяческую важность.
Выйдя из отделения, где бумагу складывали, мы прошли по холодным влажным доскам и остановились под большим мокрым навесом, брызжущим пеной, как зеленый, облепленный полипами нос корабля Ост-Индской компании в бурю. Здесь оборот за оборотом крутилось огромное темное водяное колесо, с мрачной решимостью выполняя свое единственное непреложное назначение.
– Оно приводит в движение все наши машины, сэр, во всех концах наших зданий, и там, где девушки работают, тоже.
Я глянул и убедился, что мутные воды Кровяной реки не изменили своего оттенка, оказавшись в распоряжении человека.
– Вы тут делаете только чистую бумагу, так? Ничего не печатаете? Чистая бумага, и больше ничего. Так я понимаю?
Он посмотрел на меня, словно заподозрил, что у меня не все дома.
– Да, да, конечно, – сказал я, сильно смешавшись, – просто мне показалось странным, что красная вода дает такие бледные ще… то есть листы.
По мокрой и шаткой лестнице он привел меня в большую светлую комнату, где всю обстановку составляли грубые, похожие на кормушки вместилища, пристроенные к стенам, а у этих кормушек, как кобылки у коновязи, теснились девушки, и перед каждой стояла торчком длинная поблескивающая коса, нижним концом намертво прикрепленная к краю кормушки. Коса была чуть изогнута, рукоятки не было – ни дать ни взять сабля. И через острый ее край девушки без устали тянули длинные полосы тряпок, добела отмытых, – брали их из корзины, разрывали по швам и мелкие лоскуты расщипывали чуть ли не в корпию. В воздухе плавали тонкие ядовитые частицы, со всех сторон залетая в легкие, как пылинки из солнечного луча.
– Это – тряпочная, – прокашлял мальчик.
– Душновато здесь, – прокашлял я в ответ, – но девушки не кашляют.
– А они привыкли.
– Откуда же вы получаете столько тряпок? – И я зачерпнул из корзины полную горсть.
– Некоторые из здешних деревень, а некоторые из-за моря – Ливорно, Лондон.
– Тогда вполне возможно, – протянул я задумчиво, – что среди этих тряпок есть старые рубашки, подобранные в спальнях Рая для Холостяков. Только пуговиц не осталось. Скажи-ка, мальчик, тебе никогда не попадались пуговицы для холостяков?[23]
– А они тут не растут. Чертову Темницу цветы не любят.
– Ах, так ты говоришь про цветы с таким названием?
– А вы разве не про это спрашиваете? Или про золотые запонки нашего хозяина, старого Холостяка, его наши девушки все так шепотком называют.
– Значит, этот мужчина, которого я видел внизу, холостой?
– Да, он не женатый.
– Эти сабли, если я не ошибаюсь, смотрят лезвием вперед? Но их пальцы и тряпки так мелькают, что я мог ошибиться.
– Да, лезвием вперед.
Вот, подумал я, теперь ясно, лезвием вперед, и каждую саблю несут вот так, лезвием вперед впереди каждой девушки. Если я правильно запомнил, что читал, так бывало и в старину, когда осужденных государственных преступников вели из суда на казнь. Судебный пристав шел впереди и нес саблю лезвием вперед, это означало смертный приговор. И так же, сквозь чахоточную бледность своей пустой, рваной жизни, эти рано побелевшие девушки идут к смерти.
– На вид эти косы очень острые, – опять обратился я к мальчику.
– Да, им нельзя давать тупиться. Вон, глядите!
В. эту минуту две из работниц бросили тряпки и стали водить оселком каждая по лезвию своей сабли. От воплей стали непривычная моя кровь застыла в жилах. Сами себе палачи, подумал я, сами точат оружие, которое их убивает.
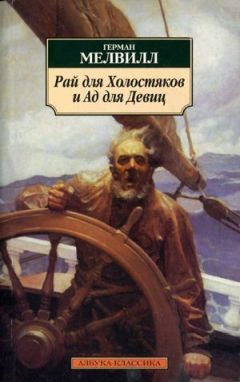
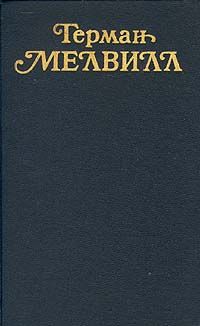
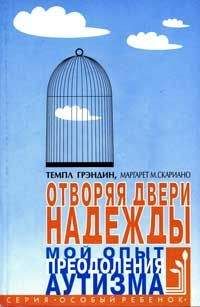


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)