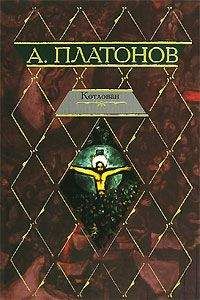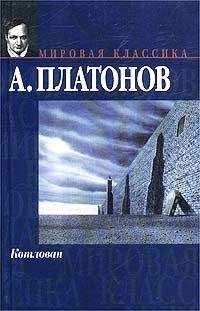Тряпичная ветошь дымилась на пальцах и явно не годилась больше ни в какую отделку. Неведомый прах сыпался в горстях Свата, тоже ничем его не привлекая.
В ветреные дни все это забвенное дерьмо пылило и осаждалось где-нибудь по ту сторону хозяйственной жизни человека. Но Сват не успокоился: он выпросил у одной вдовы огромное прямоугольное сито – принадлежность веялки – и начал сквозь него просыпать все кучи по очереди. Оставшиеся сверх сита предметы он, не изучая, относил в домашний угол, а по вечерам рассматривал добычу. Первый вечер не принес ему никакого утешения: в добыче значились куски твердого закоснелого кала, изжившие себя мочалки, четверть подошвы от валенка, какая-то жестяная зазубринка в два зуба, махор с чепца или камилавки, два камушка, веточка с сухими ягодами – «бесево», крошево бутылочного стекла, окамелок веника, птичье гнездо и многое иное, но равно дешевое.
Сват в задумчивости сидел до полуночи, а к заре окончательно поник от беспросветной нужды.
– Буду шапки делать – скоро осень! – сказал он себе утром. – Может, что выйдет! В слободе шапок не готовят, а в городе они дороги, а я по дешевке их буду шить из старых валенок, абы голову человеку грело!
Днем Сват ходил в город – продал сапоги и зипун, – а под вечерний благовест уже был в слободе. За плечами у него держался мешок, в руках палка от собак, а в кармане четыре рубля и два гривенника.
– Валушки ношеные, старые, чиненые здесь покупа-аю! – кричал Сват чужим голосом и озирался на окна и калитки.
Часа два ходил Сват с одной и той же песней – и все зря: ничего не купил. Только раз высунулась из ворот баба в нижней юбке и с намыленными руками:
– А расколотые утюги не берешь?
– Нет! – сказал Сват.
– А чего же ты берешь?
– Валенки!
– Так кто ж тебе их продаст, на зиму-то глядя! У-у, бестолковый пралич! Ты б утюги брал аль вьюшки печные чинил!..
– Того не надо мне! – говорил Сват. – Иди стирай подштанники, а меня не учи: я сам ученый, сученый, крученый, моченый, печеный, драченый... Валушки ношеные, старые, чиненые – здесь покупа-аю!
Баба пучила на проходимца одеревенелые, напуганные глаза, а потом в сердцах хлопала калиткой.
«Хлеб только собрали – какая же зима? – думал Сват. – До чего ж тут народ заботлив – вперед времени идет!»
Филат с Захаром Васильевичем в это время закончили плетень. Но чтобы работнику вышел полный день и оправдать его ужин, Захар Васильевич нашел дело:
– Филат, прочеши плетень, чтобы он не пушился, а потом к Макару сбегаешь за ведром – он ушко приделал!
Филат пошел вдоль плетня, чтобы вправить внутрь торчащие хворостины, а иные лишние изъять прочь. Плетень от такой правки получался ровный и плавный, а каждый свиток прутьев лежал уместно. После такого дела Филат надел валенки, чтобы не бередить израненных плетнем ног, и тронулся к Макару.
Сват к этому часу купил пару валеных опорок и шел знатной походкой. К такой походке его располагало плотное, стройное тело и выправка прежней, неизвестной жизни. От радости первой удачи Сват неугомонно орал свой призыв к продаже валенок.
Филат шел навстречу ему враскорячку – он никогда не служил в солдатах и не видел в жизни ничего строгого, точного и мощного.
– Скидай валенки, Филат! – сразу предложил Сват и стал в уме определять цену.
– Для чего, Игнат Порфирыч? У меня ноги в ссадинах, а от худобы желваки пошли!
– Что ж ты худой такой? – серьезно спросил Сват и положил наземь мешок. – Некормленный, что ль, живешь или сам больной?
– Да я, Игнат Порфирыч, к вечеру слабну, а по утрам встать не могу...
– Говядину-то часто ешь, сны по ночам видишь? – снова спросил Сват и с мрачной задумчивостью оглядел всего Филата.
– Снов я не вижу, Игнат Порфирыч, мне думать не о чем, а говядину хозяева сами едят – ее не укупишь, говорят, – а мне овощ порцией дают!
– Ишь сволочь какая! – не со злобой, а с горем проговорил Сват. – От овоща в человеке упора нет!.. А там, черти-дураки, кровь проливают...
– Где? – спросил Филат, и глаза его засочились от чужого участия.
– Где – не на бабьей бороде: на войне! Слыхал ты что-нибудь про войну иль тут анчутки живут?
– Слыхал, Игнат Порфирыч! У меня в теле недомерок есть – бумагу на руки дали, так и хожу с ней – боюсь заховать куда-нибудь. А по нашей слободе мужиков мало забрали: кто на железную дорогу учетником стал, а кто белобилетник.
– Знаю, тут ямщики живут – екатерининские помещики! Им что: мужик к зиме всего доставит!
– Это правильно, Игнат Порфирыч, осенью обозами прут!
– Ну, ладно, черт с ними! – закончил беседу Сват и после молчания кратко определил население Ямской слободы: – Глисты в мужицких кишках – вот кто твои хозяева!
Филат не сообразил, но согласился: он не считал себя умным человеком.
– Ты кроток, но глуп – не особенно! – успокаивал Филата Сват.
– Да мне что, Игнат Порфирыч, весь век одними руками работаю – голова всегда на отдыхе, вот она и завяла! – сознался Филат.
– Ничего, Филат, пущай голова отдохнет, когда-нибудь и она задумается! – говорил Сват и шумно выдыхал воздух, скорбя всею грудью. – Ты у кого работаешь-то сейчас?
– Да у Захара Васильевича нынче плетни кончили в саду, а завтра пойду по дворам напрашиваться!
– Ты вот что – приходи ко мне шапки шить, а там видно будет!
– Аль ты умеешь? – усомнился чего-то Филат.
– Можем. А ты поймешь?
– И я справлюсь! – подобрел Филат и пошел наконец к Макару за ведром. А Сват тронулся дальше опрашивать слободу насчет валенок.
Два человека сидели на земляном полу в хате Свата и ладили из стволов валенок зимние шапки. Работали они уже целую неделю, а сделали всего четыре шапки. На обед им шли хлеб, огурцы и капуста, но они были довольны; только от скуки дикого ландшафта свалочной пустоши и какой-то тесной темноты в сердце Свату иногда казалось, что солнце навсегда померкло – и он проверял его взором в окно, а солнце заходило за облачко, освобождалось – и вновь светило.
– Перетерпело, сволочь! – говорил о солнце Сват. – Вот, подлюка, над всякой жизнью светит – ничего не ценит: хуже скота!
Вечерами они не отдыхали – Сват спешил к Успенской ярмарке, чтобы хоть немного выручить денег и облагородить себя и Филата в одежде.
Когда становилось по-ночному темно, Сват кончал первым и говорил:
– Будя, Филат, – ноги свело, в душе морщины пошли! Достань из мешка хлебца – пожуем, и аминь!
В слободе шел густой сон, даже пар над домами поднимался, но это часто и тихо дышала земля, выгоняя дневные человеческие яды.
Сват любил перед сном постоять на крыльце и поглядеть ночной мир. Он видел, как внутрь огромного туловища земли уходило ее гремящее, бушующее сердце и там во тьме продолжало трепетать до утреннего освобождения. Свату нравилось это ежедневное событие, а ничего удивительного не было.
Спали они жутко – от усталости и общей тяжести жизни.
Подружился Филат со Сватом теплее кровного родства и думал навек остаться у него шапочным сподручным, если Сват преждевременно не прогонит.
Зато без Филата на слободе многие дела пришли в запустение: поздно обнаружилось, что Филат был единственным и необходимым мастером, способным пользовать всякое дворовое хозяйство. Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было. Иные хозяйки приходили к Филату на свалку и стучали в окошко.
– Филатушка, ты бы зашел: крыша мочится, в самоваре решетка провалилась!
По доброте сердца Филат никому не мог отказать.
– Как управлюсь – зайду, Митревна! В воскресенье жди обязательно.
Сват обижался на сговорчивость Филата.
– Чего ты этих юбошниц приучаешь? Мало они тебя порцией овощи кормили! Дурной идол!
Раз зашел Захар Васильевич, оглядел шапочное занятие и попросил:
– Зайди, Филат, жена двоих снесла – не знаю, куда деваться! – И ушел, не услышав по глухоте ответа Филата.
– К этому сходи! – сам сказал Сват. – Человеку действительно трудно!
В воскресенье Филат явился к Захару Васильевичу. Бледная, омертвевшая хозяйка лежала на деревянной кровати, на которой от клопов в обыкновенное время не спали. Филату стало жалко хозяйку, и он молча глядел в ее тонкое, благородное лицо.
– Ты что, Филат? – мучительным шепотом спросила хозяйка. – Пришел?..
– Пришел, Настасья Семеновна... Может, вам помочь нужно...
– Ах, мне ничего не надо, Филат. Спроси у Захара!
Филат почувствовал стеснительную неловкость от своего бесполезного участия и ушел из горницы. Ему было чего-то жалко и совестно, как будто он повинен в мучении Настасьи Семеновны. Тело его ломило от нервной боли, и он горел от непонятного тягостного стыда, какой случался с ним в ранней молодости. Он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее. Но такого не случилось ни разу – и Филат волновался и трепетал сейчас от чужой брачной тайны.