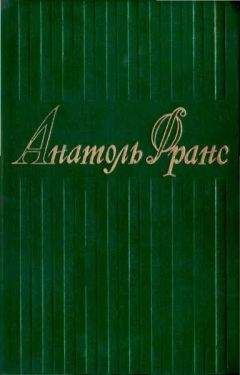Господин Сарьетт раз двадцать начинал сызнова опрашивать слуг, ничего не добился и расстроился до такой степени, что не мог спать. На следующий день, в семь часов утра, войдя в залу Бюстов и Глобусов, он нашел все в полном порядке и вздохнул с облегчением. Вдруг сердце у него заколотилось с неистовой силой, — на мраморной доске камина он увидел раскрытый непереплетенный томик in octavo новейшего издания с вложенным в него самшитовым ножом, которым были разрезаны страницы. Это была диссертация, тема которой заключалась в сопоставлении двух текстов Книги Бытия. Некогда г-н Сарьетт отправил ее на чердак, и с тех пор ее ни разу не извлекали оттуда, ибо никто из знакомых г-на д'Эспарвье не интересовался вопросом о том, какая часть этой первой из священных книг приходится на долю толкователя-монотеиста и какая на долю толкователя-политеиста.
На этой книге стоял значок «R <3214 VIII/2». И вот тут-то г-ну Сарьетту внезапно открылась горькая истина, что никакая самая ученая нумерация не поможет найти книгу, если ее нет на месте.
Так в течение целого месяца на столе каждый день с утра громоздились целые груды книг. Латинские и греческие тексты валялись вперемежку с древнееврейскими. Сарьетт задавал себе вопрос, не являются ля эти ночные разгромы делом злоумышленников, которые проникают сюда с чердака, через слуховое окно, чтобы похитить редкие и ценные издания. Но никаких следов взлома нигде не было видно, и, несмотря на самые тщательные розыски, он ни разу не обнаружил ни малейшей пропажи. Сарьетт совершенно потерял голову, и его стала преследовать мысль, что, может быть, это какая-нибудь обезьяна из соседнего дома лазает с крыши через камин и орудует здесь, имитируя ученые занятия. «Обезьяны, — рассуждал он, — очень искусно подражают действиям человека». Так как нравы этих животных были известны ему главным образом по картинам Ватто и Шардена, он воображал, что в искусстве повторять чьи-нибудь жесты или передразнивать кого-нибудь они подобны Арлекинам, Скарамушам, Церлинам и Докторам итальянской комедии;[27] он представлял их себе то с палитрой и кистями, то со ступкой в руке, за приготовлением снадобий, то листающими у горна старинную книгу по алхимии. И когда в одно злосчастное утро он увидел большую чернильную кляксу на странице третьего тома многоязычной библии в голубом сафьяновом переплете, с гербом графа Мирабо, он уже не сомневался больше, что виновницей этого злодеяния была обезьяна. Она пыталась «делать заметки» и опрокинула чернильницу. Очевидно, это была обезьяна какого-нибудь ученого.
Обуянный этой мыслью, Сарьетт тщательно изучил топографию квартала, чтобы точно представить себе расположение домов, среди которых возвышался особняк д'Эспарвье. Затем прошел по всем четырем прилегающим улицам и в каждом подъезде спрашивал, нет ли в доме обезьяны. Он обращался с этим вопросом к привратникам и привратницам, к прачкам, служанкам, к сапожнику, к торговке фруктами, к стекольщику, к газетчикам, к священнику, к переплетчику, к двум полицейским, к детям, и ему пришлось столкнуться с различием характеров и многообразием человеческих настроений в одном и том же народе, ибо ответы, которые он получал на свои вопросы, были весьма различны: они были иногда суровые, иногда ласковые, грубые и учтивые, простодушные и иронические, многословные и короткие, и даже немые. Но о животном, которое он разыскивал, не было ни слуху ни духу, пока однажды под аркой одного старого дома на улице Сервандони веснушчатая рыжая девчонка, сидевшая в каморке привратника, сказала ему:
— Да, у нас есть обезьяна, у господина Ордоно, хотите посмотреть?
И без дальних разговоров она повела старика в глубину двора, к сараю. Там на прелой соломе, на рваной подстилке, сидела, дрожа, молодая макака, охваченная цепью поперек туловища. Она была ростом с пятилетнего ребенка. Ее посиневшая мордочка, морщинистый лоб, тонкие губы выражали смертельную тоску. Она подняла на посетителя все еще живой взгляд своих желтых зрачков. Потом маленькой сухой ручкой схватила морковку, поднесла ко рту и тут же отшвырнула прочь. Поглядев несколько мгновений на пришедших, пленница отвернулась, как если бы она не ждала ничего больше ни от людей, ни от жизни. Скорчившись, обхватив колено рукой, они сидела не двигаясь, но время от времени сухой кашель сотрясал ее грудь.
— Это Эдгар, — оказала девочка. — Вы знаете, он продается!
Но старый книголюб, который пришел сюда, объятый гневом и негодованием, ожидая встретить насмешливого врага, коварное чудовище, ненавистника книг, теперь стоял растерянный, подавленный, огорченный перед этим маленьким зверьком, у которого не было ни сил, ни радостей, ни желаний. Поняв свою ошибку, растроганный этим почти человеческим лицом, еще более очеловеченным печалью и страданиями, он опустил голову и сказал:
— Простите.
которая в своей внушительной краткости выносит нас за пределы осязаемого мира
Прошло два месяца; безобразия с книгами не прекращались, и г-н Сарьетт начал подумывать о франкмасонах. Газеты, которые он читал, были полны их преступлениями. Аббат Патуйль считал их способными на самые черные злодейства и утверждал, что они, вкупе с евреями, замышляют полное разрушение христианского мира.
Они достигли теперь вершины своего могущества, они господствовали во всех крупных государственных органах, заправляли палатами, у них было пять своих людей в министерстве, они занимали Елисейский дворец[28]. Они уже отправили на тот свет одного президента республики за его патриотизм и затем помогли исчезнуть виновникам и свидетелям своего гнусного злодеяния. Дня не проходило без того, чтобы Париж с ужасом не узнавал о каком-нибудь новом таинственном убийстве, подготовленном в Ложах. Все это были факты, не допускавшие сомнения. Но каким образом преступники проникали в библиотеку? Сарьетт не мог себе этого представить. И что им там было нужно? Почему они привязались к раннему христианству и к эпохе возникновения церкви? Какие нечестивые замыслы были у них? Глубокий мрак покрывал эти чудовищные махинации. Честный католик, архивариус, чувствуя на себе бдительное око сынов Хирама[29], заболел от страха.
Едва оправившись, он решил провести ночь в том самом месте, где совершались столь загадочные происшествия, чтобы застигнуть врасплох коварных и опасных гостей. Это было большое испытание для его робкого мужества.
Будучи слабого сложения и беспокойного характера, Сарьетт, естественно, не отличался храбростью. Восьмого января, в девять часов вечера, когда город засыпал под снежной метелью, он жарко растопил камин в зале, украшенном бюстами древних поэтов и мудрецов, и устроился в кресле перед огнем, закутав колени пледом. На столике перед ним стояла лампа, чашка черного кофе и лежал револьвер, взятый у юного Мориса. Он попытался было читать газету «Ла Круа», но строчки плясали у него перед глазами. Тогда он стал пристально смотреть прямо перед собой и, не видя ничего, кроме мглы, и не слыша ничего, кроме ветра, уснул.
Когда он проснулся, огонь в камине уже погас, догоревшая лампа распространяла едкую вонь; мрак вокруг него был полон каких-то молочно-белых отсветов и фосфоресцирующих вспышек. Ему показалось, будто на столе что-то шевелится. Ужас и холод пронизали его до мозга костей, но, поддерживаемый решимостью, которая была сильнее страха, он встал, подошел к столу и провел рукой по сукну. Ничего не было видно, даже отсветы исчезли, но он нащупал пальцами раскрытый фолиант. Он попробовал было закрыть его, но книга не слушалась и, вдруг подскочив, трижды больно ударила неосторожного библиотекаря по голове. Сарьетт упал без сознания.
С этого дня дела пошли еще хуже. Книги целыми грудами исчезали с полок, и теперь их уже не всегда удавалось водворить на место: они пропадали. Сарьетт каждый день обнаруживал все новые и новые пропажи. Болландисты[30] были разрознены, не хватало тридцати томов экзегетики. Сарьетт стал не похож на себя. Лицо у него сморщилось в кулачок и пожелтело, как лимон, шея вытянулась, плечи опустились, одежда висела на нем, как на вешалке, он перестал есть и в кафе «Четыре епископа» сидел, опустив голову, и смотрел тупыми, ничего не видящими глазами на блюдце, где в мутном соку плавал чернослив. Он не слышал, как папаша Гинардон сообщил ему, что принимается наконец за реставрацию росписей Делакруа[31] в церкви св. Сульпиция.
На тревожные заявления своего несчастного хранителя г-н Ренэ д'Эспарвье сухо отвечал:
— Книги просто затерялись где-нибудь, — они не пропали. Ищите хорошенько, господин Сарьетт, ищите получше, и вы их найдете.
А за спиной старика он говорил тихонько: