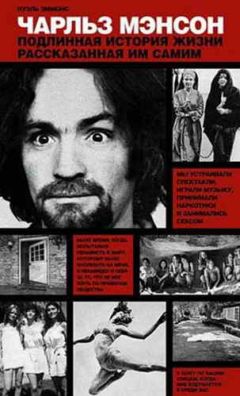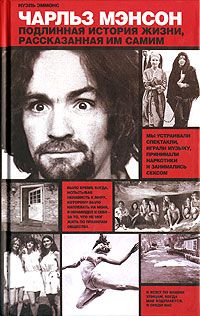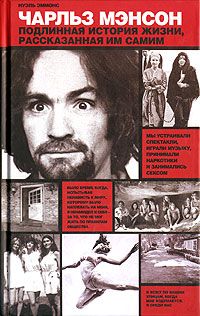В восемнадцать лет Эндрью оказался один на свете. Он учился тогда на первом курсе университета Ст.-Эндрью и получал стипендию — сорок фунтов в год, не имея, кроме нее, не единого гроша за душой. Спасал его «Гленовский фонд», это типично-шотландское учреждение, которое (употребляя наивную терминологию покойного сэра Эндрью Глена, его основателя) «приглашает достойных и нуждающихся студентов, получивших при крещении имя Эндрью, брать ссуды не свыше пятидесяти фунтов в год в течение пяти лет, при условии, если они готовы добросовестно погасить эти ссуды по окончании учения».
«Гленовский фонд» и способность весело голодать помогли Эндрью пройти весь курс в университете Ст.-Эндрью и затем окончить медицинский факультет в городе Данди. А благодарность Фонду и несносная честность заставили его тотчас по получении диплома спешно взять место в Южном Уэльсе (где только что окончившие врачи могли рассчитывать на больший заработок, нежели во всех других местах) с жалованьем в 250 фунтов в год, хотя он, конечно, предпочел бы работать в Эдинбургской королевской клинике и получать в десять раз меньше.
И вот он в Блэнелли, — встает, бреется, одевается, все это с лихорадочной быстротой, вызванной беспокойством о первой пациентке. Он торопливо позавтракал и побежал обратно в свою комнату. Здесь отпер чемодан и достал оттуда маленький футляр синей кожи. Открыл его и с серьезным выражением смотрел некоторое время на лежавшую внутри медаль, гунтеровскую[6] золотую медаль, которую ежегодно присуждали в университете Ст.-Эндрью студенту, сделавшему наибольшие успехи в клинической медицине. И он, Эндрью Мэнсон, получил эту медаль! Он ценил ее превыше всего, привык смотреть на нее как на талисман, залог счастливого будущего. Но в это утро он взирал на нее с гордостью, с какой-то странной тайной мольбой, словно стремясь вновь обрести веру в себя. Потом, спрятав футляр, поспешил в амбулаторию на утренний прием больных.
Когда Эндрью вошел в эту лачугу, он уже застал там Дэя Дженкинса, наливавшего воду из крана в большой глиняный горшок. Это был проворный вертлявый человечек, с впалыми щеками в красных жилках, с глазами, шнырявшими одновременно во все стороны, и худыми ногами в таких тесных брюках, каких Эндрью ни на ком еще не видывал. Дженкинс поздоровался с ним и сказал заискивающе:
— Вам нет надобности приходить так рано, доктор. Я могу до вашего прихода отпустить все повторные лекарства и выдать, кому нужно, удостоверения. Миссис Пейдж заказала резиновый штамп с подписью доктора Пейджа, когда он заболел.
— Благодарю вас, — возразил Эндрью. — Но я хочу сам принять всех больных. — Он остановился, забыв на время о своей тревоге, пораженный тем, что делал аптекарь. — А что это вы делаете?
Дженкинс вместо ответа подмигнул ему.
— Из этого горшка вода покажется им вкуснее. Мы с вами знаем, что значит добрая старая «aqua»[7], не так ли, доктор? Ну, а пациенты этого не знают. Дурак был бы я, если бы при них наливал воду в их бутылки прямо из крана!
Маленький аптекарь обнаруживал явное желание пуститься в откровенности, но из задней двери дома, за сорок ярдов от амбулатории, вдруг раздался громкий окрик:
— Дженкинс! Дженкинс! Вы мне нужны — сию же минуту!
Дженкинс подскочил, как строго вымуштрованный пес при щелкании бича погонщика, и пробормотал дрожащим голосом:
— Извините, доктор. Меня зовет миссис Пейдж. Я... Я должен бежать туда.
К счастью, на утренний прием пришло всего несколько человек, к половине одиннадцатого Эндрью всех отпустил и, получив от Дженкинса список больных, которых следовало посетить на дом у, тотчас выехал в двуколке Томаса. В почти мучительном нетерпении он велел старому кучеру ехать прямо на Глайдер-плейс.
Через двадцать минут он вышел из дома № 7 бледный, крепко сжав губы, со странным выражением лица.
Пройдя два дома, вошел в № 11, который тоже числился у него в списке. Из № 11, перейдя улицу, — в № 18. Из № 18, завернув за угол, направился на Рэднор-плейс, где еще два адреса было записано Дженкинсом с указанием, что он уже побывал там вчера. Всего он за час сделал семь визитов в дома, расположенные очень близко друг от друга. В пяти случаях из семи, включая и пациентку из дома № 7 на Глайдер-плейс, у которой уже появилась характерная сыпь, он обнаружил типичные признаки брюшного тифа. Последние десять дней Дженкинс лечил их мелом и опиумом. После вчерашней неудачной попытки поставить диагноз Эндрью теперь с ужасом убедился, что имеет дело с вспышкой эпидемии тифа.
Остальные визиты он проделал как можно быстрее, в состоянии, близком к панике.
За лэнчем, во время которого миссис Пейдж была всецело занята отлично подрумяненным сладким мясом (которое, как она весело пояснила Мэнсону, «было приготовлено для доктора Пейджа, но почему-то ему не понравилось»), он хранил ледяное молчание, обдумывая этот вопрос. Он понимал, что от миссис Пейдж узнает очень мало и помощи от нее ждать нечего. И решил, что следует поговорить с самим Пейджем.
Но когда он вошел в комнату доктора, шторы там были опущены, и Эдвард лежал пластом на кровати с сильной головной болью. Лицо его было очень красно и сморщено от боли. Хотя он знаком попросил гостя присесть, Эндрью почувствовал, что было бы жестоко сейчас расстраивать больного новой неприятностью. Посидев несколько минут у кровати, он встал, собираясь уйти, и ограничился лишь следующим вопросом:
— Скажите, доктор Пейдж, что надо первым делом предпринять, когда имеются случая заразных болезней?
Пауза. Потом Пейдж, не открывая глаз и не двигаясь, ответил с таким видом, как будто уже от одного того, что он заговорил, его мигрень усилилась:
— В таких случаях всегда бывают затруднения. У нас нет даже и больницы, не говоря уже об изоляционных бараках. Если вы натолкнетесь на что-нибудь очень серьезное, позвоните Гриффитсу в Тониглен. Это в пятнадцати милях отсюда, ниже Блэнелли. Гриффитс — окружной врачебный инспектор.
Снова пауза, длиннее предыдущей.
— Но боюсь, что от этого мало будет пользы.
Утешенный такими сведениями, Эндрью помчался вниз, в переднюю, и позвонил в Тониглен. Стоя у телефона с трубкой у уха, он заметил Энни, служанку, смотревшую на него из-за двери кухни.
— Алло! Алло! Это доктор Гриффитс? — Он, наконец, добился соединения.
Мужской голос ответил очень сдержанно и осторожно:
— А кто его спрашивает?
— Говорит Мэнсон из Блэнелли, ассистент доктора Пейджа. — Голос Эндрью достиг высшей степени напряжения. — У меня здесь пять случаев тифа. Я прошу доктора Гриффитса немедленно приехать.
Откровеннейшая пауза и затем стремительный ответ монотонной заискивающей скороговоркой, сильным уэльским акцентом:
— Ужасно сожалею, доктор, ужасно сожалею, но доктор Гриффитс уехал в Суонси. По важному служебному делу.
— А когда он вернется? — крикнул Мэнсон во весь голос (телефон был в неисправности).
— Право, доктор, не могу сказать наверное.
— Но послушайте...
На другом конце провода что-то щелкнуло. Говоривший совершенно хладнокровно повесил трубку. Мэнсон в гневном, раздражении громко выругался:
— Ах, черт побери, я уверен, что это был сам Гриффитс!
Он позвонил снова, но его не соединяли. Он с упорной настойчивостью собирался звонить в третий раз, когда, обернувшись, увидел, что Энни вышла в переднюю и стоит, сложив на фартуке руки, спокойно и степенно глядя на него.
Это была женщина лет сорока пяти, очень опрятная, с серьезным и неизменно ясным выражением лица.
— Я нечаянно слышала ваш разговор, доктор, — сказала она. — Доктора Гриффитса никогда не застанете в Тониглене в этот час. Он чаще всего днем уезжает в Суонси играть в гольф.
Силясь проглотить клубок, подкатившийся к горлу, Мэнсон сердито возразил:
— Но мне кажется, что со мной говорил именно он.
— Возможно. — Энни слабо усмехнулась. — Я слыхала, что, когда он и не уезжает в Суонси, он отвечает, что уехал. — Она дружелюбно и спокойно посмотрела на Эндрью, затем повернулась к двери и заключила: — Я бы на вашем месте не стала терять время на разговор с ним.
Эндрью повесил трубку и с все возрастающим негодованием и тревогой, бормоча проклятия, вышел из дому и вторично обошел своих больных. Когда он воротился, пора было начинать вечерний прием. Полтора часа просидел он за перегородкой, в тесной каморке, изображавшей кабинет врача, осматривая больных, которыми была битком набита приемная, до тех пор, пока не запотели стены и в комнате можно было задохнуться от испарений, выделяемых мокрыми телами. Рудокопы с порезанными пальцами, с профессиональными болезнями глаз и коленных связок, с хроническим ревматизмом. Их жены и дети — кашляющие, простуженные, с каким-нибудь растяжением или вывихом, с всякими другими мелкими человеческими недугами. При иных обстоятельствах Эндрью эта работа доставила бы удовольствие, ему приятно было бы даже спокойно-оценивающее наблюдение за ним этих хмурых людей с землистыми лицами, перед которыми он чувствовал себя, как на экзамене. Но сегодня он был всецело поглощен более важным вопросом, и голова у него шла кругом от сыпавшегося на него града пустячных жалоб. И все время, пока он писал рецепты, выстукивал груди и давал советы, в нем зрело решение, которое он мысленно выражал следующими словами: «Это он меня надоумил. Я его ненавижу, да, он мне противен, этот высокомерный дьявол, но ничего не поделаешь, придется идти к нему».