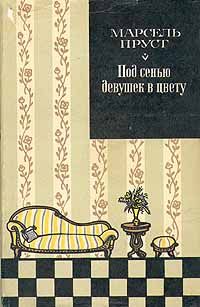Я все же пришел к этому приятию, и тогда я понял, что оно должно быть окончательным, и навсегда отказался от Жильберты, — отказался ради моей любви к ней, главным же образом потому, что не хотел, чтобы у нее остались презрительные воспоминания обо мне. Я даже, — чтобы она не думала, что я испытываю нечто вроде любовной досады, — часто потом соглашался прийти на свидания, которые она мне назначала, но в последнюю минуту, как я поступил бы со всяким, кого мне бы не хотелось видеть, писал ей, что, к моему большому огорчению, прийти не могу. Эти сожаления, обычно выражаемые людям, к которым мы равнодушны, должны были, как мне казалось, служить еще более явным доказательством моего равнодушия к Жильберте, чем деланно равнодушный тон, каким мы говорим только с любимой. Если бы не столько мои слова, сколько без конца повторяемые действия убедили ее, что меня к ней не тянет, тогда, быть может, ее потянуло бы ко мне. Увы! То были тщетные усилия: не видя Жильберты, добиваться того, чтобы ее потянуло ко мне, это значит потерять ее навсегда: во-первых, потому, что, когда ее снова потянет ко мне, то не в моих интересах, если только я хочу, чтобы эта тяга не прекращалась, сразу сдаваться; притом, самое тяжелое для меня время тогда уже пройдет; она была мне необходима сейчас, и мне хотелось предупредить ее, что когда мы с ней увидимся вновь, то она успокоит боль, которая и так уже утихнет — настолько, что это успокоение не послужит, как послужило бы сейчас, прекратив мои страдания, поводом для капитуляции, для примирения, для новых встреч. Когда же, некоторое время спустя, я смогу наконец безболезненно поговорить с Жильбертой начистоту, — такой сильной станет ее тяга ко мне, а моя к ней, — это явится знаком того, что моя тяга не выдержала долгой разлуки, и ее уже нет; знаком того, что я стал равнодушен к Жильберте. Все это я продумал, но не говорил ей; она бы вообразила, что я делаю вид, будто, так долго с ней не встречаясь, в конце концов разлюбил ее, — делаю вид, только чтобы она как можно скорее пригласила меня к себе. Пока что, желая облегчить себе разлуку, я (чтобы Жильберта поняла, что, вопреки моим уверениям, я по собственному желанию, а не из-за какой-либо помехи, не по состоянию здоровья, лишаю себя встреч с ней) всякий раз, когда мне было точно известно, что Жильберты не будет дома, что ей нужно куда-то идти с подругой и к обеду она не вернется, шел к г-же Сван (теперь она снова стала для меня той, какою была во времена, когда мне было так трудно видеться с ее дочерью и когда, если Жильберта не приходила на Елисейские поля, я гулял по Аллее акаций). Я надеялся услышать что-нибудь о Жильберте и был уверен, что и она услышит обо мне и поймет, что она мне не дорога. И я еще склонен был думать, как все, с кем случалось несчастье, что моя горькая доля могла бы быть хуже. Я убеждал себя, что двери дома Жильберты для меня открыты, но я и так уже не пользуюсь широко этим правом, а когда почувствую, что мне невыносимо тяжело там бывать, то в любой момент прекращу эту пытку. Мое горе оттягивалось со дня на день. Впрочем, и это еще громко сказано. Сколько раз в течение одного часа (но теперь уже без тоски ожидания, обволакивавшей меня в первые недели после нашей ссоры, когда я еще не решался снова начать бывать у Сванов) я читал себе письмо, которое Жильберта когда-нибудь мне пришлет, а может быть, даже принесет сама! Постоянное упоение воображаемым счастьем помогало мне переносить разрушение счастья подлинного. Чувство безнадежности, испытываемое нами, когда мы думаем о женщинах, которые нас не любят, или о «без вести пропавших», не мешает нам чего-то ждать. Мы все время начеку, настороже; сын ушел в море, в опасное плавание, а мать каждую минуту, даже много времени спустя после того, как она узнала наверное, что он погиб, представляет себе, что он чудом спасся, что он невредим и вот сейчас войдет. И это ожидание, в зависимости от силы памяти и от сопротивляемости организма, помогает ей с годами привыкнуть к мысли, что ее сына нет в живых, помогает в конце концов забыть о нем и выжить — или убивает ее.
Кроме того, я отчасти утешался мыслью, что горе полезно для моей любви. Каждый мой приход к г-же Сван в отсутствие ее дочери был для меня мучителен, но зато я чувствовал, что это возвышает меня в глазах Жильберты.
И еще: прежде чем идти к г-же Сван, я удостоверялся, что не застану Жильберту дома, быть может не столько потому, что твердо решил с ней рассориться, сколько потому, что надежда на мир наслаивалась на мою волю к разрыву (ведь нет же почти ничего абсолютного, — во всяком случае, такого, что было бы всегда абсолютным, — в человеческой душе, одним из законов которой, поддерживаемым внезапными притоками воспоминаний, является прерывистость) и утаивала от меня то, что есть самого мучительного в разрыве. Несбыточность надежды я сознавал отчетливо. Я был похож на бедняка, который не так обильно орошает слезами свой черствый кусок хлеба оттого, что говорит себе в утешение: ведь может же случиться так, что какой-нибудь иностранец именно сейчас оставит ему все свое состояние. Все мы принуждены ради того, чтобы сделать жизнь сносной, защищаться от нее каким-нибудь чудачеством. Вот так и моя надежда была более цельной, — при том что отрыв от Жильберты осуществлялся с большей решительностью, — оттого что мы не виделись. Если б мы встретились у ее матери» быть может, мы сказали бы друг другу непоправимые слова, которые рассорили бы нас окончательно и убили бы во мне надежду, но тогда в моей душе всколыхнулась бы тоска, с новой силой вспыхнула бы любовь и мне уже труднее было бы покоряться своей участи.
Давным-давно, задолго до моей ссоры с Жильбертой, г-жа Сван говорила мне: «Это очень хорошо, что вы ходите к Жильберте, но я была бы рада, если б вы иногда приходили и ко мне, но не в те дни, когда у меня полон дом гостей, — вам с ними будет скучно, — а в другие, но только попозже: тогда вы меня непременно застанете». Таким образом, теперь я делал вид, что исполняю давнее ее желание. И поздним вечером, когда мои родители садились ужинать, я уходил к г-же Сван, зная, что не увижу Жильберту и все-таки буду думать только о ней. В этом считавшемся тогда отдаленном квартале Парижа, более темного, чем теперь, потому что электричество было тогда в немногих домах, а на улицах, даже в центре, его совсем не было, только лампы из гостиных в первом этаже или с низеньких антресолей (такие именно антресоли были в этом доме, и там обычно принимала гостей г-жа Сван) освещали дорогу и заставляли поднимать глаза прохожих, для которых этот свет за занавесками был явным, хотя и не резким знаком того, что у подъезда стоят дорогие кареты. Если какая-нибудь карета трогалась, прохожие не без волнения думали, что в загадочном этом явлении произошли перемены; но это всего-навсего кучер, чтобы лошади не озябли, время от времени давал им пробежаться, и такие пробежки производили тем более сильное впечатление, что резиновые шины создавали бесшумный фон, на котором отчетливее в резче выделялся топот копыт.
«Зимним садом», в те года представлявшимся взору прохожего на любой улице, во всех квартирах, кроме расположенных слишком высоко над тротуаром, теперь можно полюбоваться лишь на гелиогравюрах в подарочных книгах П. — Ж. Сталя, и на гравюрах он, — в отличие от теперешних салонов в стиле Людовика XVI, где редко когда увидишь розу или японский ирис в хрустальной вазе с таким узким горлышком, что два цветка там уже не поместились бы, — благодаря тогдашнему обилию комнатных растений и полному отсутствию стилизации в их размещении, как будто хранит на себе печать не бесстрастной заботы о мертвой декоративности, но живой, пленительной любви хозяек дома к ботанике. Он напоминает, но только в увеличенном виде, переносную оранжерейку, которую тогда ставили новогодним утром под зажженной лампой, — у детей не хватало терпения ждать, пока рассветет, — среди других подарков, и то был лучший подарок, так как своими растеньицами, которые надо было выращивать, он вознаграждал за наготу зимы; в еще большей степени, чем на эти оранжерейки, зимние сады походили на ту, что была рядом с ними, на картинке из красивой книги, — это был тоже новогодний подарок, — и хотя оранжерейку из книги дарили не детям, а героине повести Лили, они приходили от нее в восторг, и теперь, почти уже состарившись, они склоняются к мысли, что в те блаженные времена зима была самым лучшим временем года. Наконец, в глубине зимнего сада, сквозь переплет ветвей самых разных растений, благодаря которому освещенное окно с улицы становилось похожим на стекла тех самых детских оранжереек, нарисованных или настоящих, прохожий, поднявшись на цыпочки, чаще всего видел господина в сюртуке с гарденией или гвоздикой в петлице, — господин стоял перед сидевшей дамой, и оба они, точно вырезанные на топазе, неясно различались в глубине гостиной, задымленной паром от самовара, — тогда это еще было новшеством, — паром, который, может быть, поднимается и теперь, но к которому так привыкли, что никто его уже не замечает. Г-жа Сван придавала большое значение «чаю»; она полагала, что это будет оригинально и очень мило, если она кому-нибудь скажет: «Вы всегда меня застанете, но только попозже; приходите к чаю», — и произносила она эти слова с чуть заметным английским акцентом, улыбаясь ласковой и тонкой улыбкой, а польщенный знакомый г-жи Сван с многозначительным видом кланялся ей, как будто ее слова заключали в себе особый, глубокий смысл, внушавший почтительность и требовавший внимания. Была еще одна причина, кроме вышеуказанных, отчего цветы являлись не просто украшением салона г-жи Сван, и причина эта коренилась не в эпохе, а в прежней жизни Одетты. Кокотка высокого полета, каковой она раньше и была, живет главным образом для любовников, то есть у себя дома, а это приучает ее жить для себя. Порядочная женщина, конечно, тоже может дорожить своими вещами, но кокотка дорожит ими еще больше. Важнейшая минута ее дня — не та, когда она одевается для всех, но та, когда она раздевается для одного. Ей нужно быть не менее элегантной в капоте, в ночной сорочке, чем в выходном платье. Другие женщины выставляют свои драгоценности напоказ, ей же надлежит быть в тесной дружбе с ее жемчугами. Такой образ жизни обязывает, воспитывает вкус к тайной роскоши, вкус почти бескорыстный. У г-жи Сван был вкус к цветам. Около ее кресла всегда стояли в громадной хрустальной чаше с водой заполонявшие ее пармские фиалки и маргаритки с оборванными листочками, и гость мог принять это за знак прерванного любимого занятия, так же как недопитую чашку чая, которую г-жа Сван выпила бы в одиночестве ради собственного удовольствия; занятия даже еще более интимного и таинственного, так что человеку, скользнувшему взглядом по этим стоявшим на самом виду цветам, хотелось извиниться, как будто он подсмотрел заглавие еще не раскрытой книги, по которому можно судить о том, что Одетта читала, а следовательно — быть может, и о том, что она сейчас думает. А ведь цветы — существа, в еще большей степени живые, чем книги, и вам было бы так же неловко, как если бы вы, придя к г-же Сван, обнаружили, что она не одна, или, вернувшись вместе с нею в гостиную, заметили бы, что тут кто-то есть, — до того загадочную играли роль и такое близкое имели отношение к тем часам жизни хозяйки дома, о которых никому ничего не было известно, эти поставленные не для гостей Одетты, а как бы ею забытые здесь цветы, словно они вели и будут еще вести с ней особый разговор, который вы боялись прервать и тайну которого вы безуспешно пытались прочитать в линялом, жидком, лиловом, водянистом цвете пармских фиалок. С конца октября Одетта начала прилагать старания, чтобы по возможности вовремя возвращаться домой к чаю, на свой, как тогда еще говорили, five o'clock tea: она слышала (и любила повторять), что г-же Вердюрен удалось создать салон потому, что в определенный час ее наверное можно застать дома. Одетта тоже задалась целью выбрать себе такой час, только без особых стеснений, senza rigore. по излюбленному ее выражению. Она смотрела на себя как на вторую Леспинас и считала себя основательницей салона, соперничающего с салоном дю Дефан, у которой ей удалось переманить самых приятных посетителей, в частности Свана, последовавшего за ней в ссылку и разделившего ее уединение, — этим ее россказням верили не осведомленные о ее прошлом новые знакомые, но, понятно, не она сама. Мы столько раз играем перед публикой любимые наши роли и они так вошли в нашу плоть и кровь, что нам легче сослаться на ложное их свидетельство, чем запросить действительность, почти совершенно забытую. В те дни, когда г-жа Сван совсем не выходила из дому, она надевала крепдешиновое платье, белое, как первый снег, а иногда — длинный шелковый, с оборками, пеньюар, похожий на гроздь бело-розовых цветов, — теперь считается, что такие пеньюары для зимы не подходят, но это неверно. Легкие ткани и нежные тона в тогдашних жарко натопленных, отделенных портьерами гостиных, о которых светские романисты того времени, стараясь как можно изящнее выразиться, писали, что они «подбиты уютом», придавали женщине такой же озябший вид, как розам, несмотря на зиму, красовавшимся возле нее, как будто на дворе стояла весна во всей румяной своей наготе. Ковры приглушали звуки, хозяйка дома сидела в глубине, вы появлялись неожиданно для нее, она продолжала читать, когда вы подходили к ней почти вплотную, и благодаря этому впечатление приобретало еще большую романтичность, ко всему этому очарованию примешивалось очарование подслушанной тайны, чем и сейчас еще веют на нас воспоминания об уже тогда выходивших из моды платьях, с которыми, пожалуй, одна лишь г-жа Сван не решалась расстаться и при виде которых у нас рождалась мысль, что женщина, носящая такие платья, — наверное, героиня романа, потому что в большинстве случаев мы видели их в романах Анри Гревиля. Теперь в гостиной Одетты стояли в начале зимы громадные хризантемы самых разных цветов — такого разнообразия Сван прежде у нее не видел. Я восхищался ими во время моих печальных посещений г-жи Сван, когда моя грусть возвращала мне всю таинственную поэтичность этой женщины, которая завтра скажет Жильберте: «У меня был твой друг», — восхищался, конечно, потому, что, розово-палевые, как шелк ее кресел в стиле Людовика XV, белоснежные, как ее домашнее крепдешиновое платье, или медно-красные, как самовар, они служили гостиной дополнительным украшением столь же роскошной, столь же изысканной окраски, как сама гостиная, но только живой и непрочной. Меня умиляло еще и то, что хризантемы были менее хрупки, более долговечны по сравнению с тоже розовыми или тоже медными отблесками, которыми заходящее солнце так пышно обагряет мглу ноябрьских сумерек и которые, — только я при входе к г-же Сван успевал их заметить, — потухали на небе, но зато продлевались, обретали новую жизнь в пламеневшей палитре цветов. Подобно огням, уловленным великим колористом в переменчивости атмосферы и солнца для того, чтобы они украсили человеческое жилье, хризантемы заставляли меня преодолевать грусть и с жадностью вбирать в себя во время чая мимолетные радости ноября, всем уютным и таинственным великолепием которых они рдели подле меня. Увы! В разговорах я этой прелести не находил; с разговорами у хризантем было мало общего. Даже г-же Котар, и притом в поздний час, г-жа Сван деланно приветливым тоном говорила: «Да нет, посидите, не смотрите на часы, сейчас еще очень рано, эти часы стоят, ну куда вам торопиться?» И она еще предлагала зажавшей в руках сумочку профессорше пирожок.