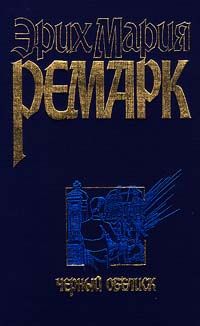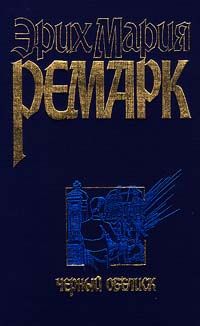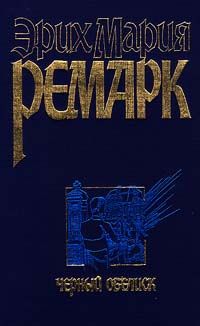— Пойдем непременно, Отто. Мы обязаны пойти ради поэзии.
— И почему охотнее всего пьешь, когда идет дождь? — спрашивает Валентин и снова наполняет стаканы. — Полагалось бы наоборот.
— А тебе хотелось бы всему найти объяснения?
— Конечно, нет! Тогда не о чем было бы с людьми разговаривать. Просто к слову пришлось.
— Может быть, тут действует нечто вроде стадного чувства? Жидкость призывает к жидкости.
— Но я и мочусь чаще в дождливые дни, а это уж по меньшей мере странно.
— Оттого, что в эти дни ты больше пьешь. Что тут странного?
— Правильно. — Валентин удовлетворенно кивает головой. — Об этом я не подумал. Скажи, а люди потому воюют, что тогда больше детей родится?
Бодендик, словно большая черная кошка, пробирается сквозь туман.
— Ну как? — игриво спрашивает он. — Все еще стараетесь исправить этот мир?
— Я наблюдаю его.
— Ага! Видно, что философ! И что же вы находите?
Я смотрю на его веселое лицо, красное и мокрое от дождя, оно сияет из-под шляпы с отвисшими полями.
— Нахожу, что за две тысячи лет христианство очень мало продвинуло человечество вперед, — отвечаю я.
На миг лицо Бодендика, выражающее благоволение и сознание своего превосходства, меняется, затем становится прежним.
— А вы не думаете, что, пожалуй, еще слишком молоды для подобных суждений?
— Верно, а вы не находите, что ставить человеку в вину его молодость — самое неубедительное возражение, какое можно придумать?! Других у вас нет?
— У меня есть множество других. Но не против подобной нелепости. Разве вы не знаете, что всякое обобщение — признак легкомыслия?
— Верно, — устало соглашаюсь я. — И сказал я это только потому, что идет дождь. Но все же в этом есть какая-то правда. Вот уже больше месяца, как я, когда не спится, занимаюсь изучением истории.
— Почему? Тоже потому, что время от времени идет дождь?
Я игнорирую этот безобидный выпад.
— Оттого что мне хотелось уберечься от преждевременного пессимизма и некоторого отчаянья. Не каждому дано с простодушной верой устремлять свой взгляд поверх всего на Пресвятую Троицу, не желая замечать, что мы тем временем усердно заняты подготовкой новой войны, хотя только что проиграли предыдущую, которую вы и ваши коллеги различных протестантских толков во имя Божье и любви к ближнему благословили и освятили: допускаю, что вы делали это не так громогласно и с некоторым смущением, а ваши коллеги военные — тем бодрее позвякивая крестами и пылая жаждой победы.
Бодендик стряхивает капли дождя со своей черной шляпы.
— Мы приносим умирающим на поле боя утешение — вы об этом как будто совсем забыли.
— Не надо было допускать побоища. Почему вы не объявили забастовку? Почему не запретили своим прихожанам участвовать в войне? Вот в чем был ваш долг! Но, видно, времена мучеников миновали! Зато когда я бывал вынужден присутствовать на церковной службе в окопах, я очень часто слышал моления о победе нашего оружия. Как вы думаете, Христос стал бы молиться о победе галилеян над филистимлянами?
— Должно быть, дождь пробуждает в вас повышенную эмоциональность и склонность к демагогии, — сдержанно отвечает Бодендик. — И вам, как видно, хорошо известно, что с помощью ловких пропусков, извращений и одностороннего истолкования можно вызвать сомнение в чем угодно и опровергнуть все на свете.
— Известно. Поэтому я и изучаю историю. В школе и на уроках Закона Божия нам постоянно рассказывали о темных, первобытных и жестоких дохристианских эпохах. Сейчас я снова читаю об этом и нахожу, что мы от тех времен недалеко ушли, — я оставляю в стороне развитие науки и техники. Но и их мы используем главным образом для того, чтобы убивать как можно больше людей.
— Если хочешь что-нибудь доказать, милый мой, всегда докажешь. И обратное — тоже. Для всякой предвзятой точки зрения всегда найдутся доказательства.
— Тоже знаю, — говорю я. — Церковь подтвердила это блестящим образом, когда расправилась с гностиками.
— С гностиками! А что вы знаете о гностиках? — спрашивает Бодендик с оскорбительным удивлением.
— Достаточно, и я подозреваю, что они представляли собой самую терпимую часть христианства. А все, чему до сих пор меня научила жизнь, — это ценить терпимость.
— Терпимость… — подхватывает Бодендик.
— Терпимость, — повторяю я. — Бережное отношение к другому. Понимание другого. Пусть каждый живет по-своему. Но терпимость в нашем возлюбленном отечестве звучит, как слово на незнакомом языке.
— Короче говоря, анархия, — отвечает Бодендик вполголоса и вдруг очень резко.
Мы стоим перед часовней. Свечи зажжены, и пестрые окна утешительно поблескивают сквозь налетающий порывами дождь. Из открытых дверей доносится слабый запах ладана.
— Терпимость, господин викарий, — говорю я, — это вовсе не анархия, и вы отлично знаете, в чем разница. Но вы не имеете права допустить ее, так как в обиходе вашей церкви этого слова нет. Только вы одни способны дать человеку вечное блаженство! Никто не владеет небом, кроме вас! И никто не может отпускать грехи — только вы. У вас на все это монополия. И нет иной религии, кроме вашей! Вы — диктатура! Так разве вы можете быть терпимыми?
— Нам это и не нужно. Мы владеем истиной.
— Конечно, — отвечаю я, указывая на освещенные окна часовни. Вы даете вот это! Утешение для тех, кто боится жизни! Думать тебе-де больше незачем. Я все знаю за тебя! Обещая небесное блаженство и грозя преисподней, вы играете на простейших человеческих эмоциях, — но какое отношение такая игра имеет к истине; этой фата-моргане, обольщающей наш ум?
— Красивые слова, — заявляет Бодендик, он уже давно обрел прежний миролюбивый, снисходительный и слегка насмешливый тон.
— Да, все, что у нас есть, — это красивые слова, — отзываюсь я, рассерженный на самого себя. — Но и у вас — только красивые слова.
Бодендик входит в часовню.
— У нас есть святые таинства…
— Да…
— И вера, которая только болванам, с их скудными мыслишками — пищеварение еще тормозит их, — кажется глупостью и бегством от жизни; так-то, безобидный дождевой червь, роющийся на пашнях пошлостей!
— Браво! — восклицаю я. — Наконец-то и вы заговорили языком поэзии. Правда, она в духе позднего барокко.
Бодендик вдруг начинает хохотать.
— Дорогой Бодмер, — заявляет он. — За почти два тысячелетия существования церкви не один Савл обратился в Павла. И мы повидали и одолели не таких карликов, как вы. Продолжайте, бодро ползите дальше. В конце любого пути стоит Бог и ждет вас.
И этот упитанный человек в черном сюртуке исчезает вместе со своим зонтиком в ризнице. А через полчаса, одетый причудливее, чем гусарский генерал, он снова выйдет оттуда и будет исполнять роль представителя Господа Бога. Вся суть в мундире, говорил Валентин Буш после второй бутылки Иоганнисбергера, в то время как Эдуард Кноблох все больше предавался меланхолии и мечтам о мести, — только в мундире. Отними у военных мундир — и не найдется ни одного человека, который захотел бы стать солдатом.
После вечерней службы я гуляю с Изабеллой по аллее. Здесь дождь падает неравномерно. Как будто в листве деревьев сидят тени и окропляют себя водой. На Изабелле наглухо застегнутый плащ и маленький капюшон, прикрывающий волосы. Видно только ее лицо, оно светится в темноте, как узкий серп месяца. Погода холодная и ветреная, и, кроме нас, в саду никого не осталось. Я давно забыл и Бодендика, и ту черную злость, которая без всякой причины порой вдруг начинает бить из моей души, словно грязный фонтан.
Изабелла идет очень близко от меня, сквозь шелест дождя я слышу ее шаги, ощущаю ее движения и тепло ее тела, и мне чудится, будто это единственное тепло, которое еще осталось на свете.
Вдруг она останавливается. Лицо у нее бледное и решительное, глаза кажутся почти черными.
— Ты любишь меня недостаточно сильно, — вдруг заявляет она.
Я смотрю на нее пораженный.
— Люблю, как могу, — отвечаю я. Она стоит некоторое время молча. Затем бормочет:
— Мало. Нет, мало. Никогда нельзя любить достаточно!
— Да, — соглашаюсь я. — Должно быть, никогда не любишь достаточно. В течение всей жизни никогда, никого. Должно быть, всегда любишь слишком мало — и от этого все человеческие несчастья.
— Мало, — повторяет Изабелла, словно не слыша моих слов. — Иначе нас было бы уже не двое.
— Ты хочешь сказать — мы были бы одно?
Она кивает. Я вспоминаю наш разговор с Георгом, когда мы пили глинтвейн.
— Увы, нас всегда будет двое, Изабелла, — осторожно замечаю я. — Но мы можем любить друг друга и верить, что мы уже одно.
— Ты думаешь, мы когда-то были одно?