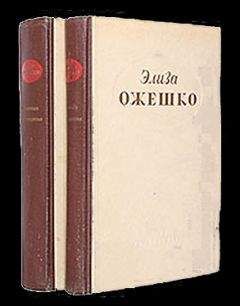Потом, продолжая раскачиваться и шевелить губами, надел на голову ремень с квадратным футлярчиком, прикрепляющимся ко лбу, и, обернув другой такой же ремень вокруг своего пальца, произнес:
— Обручаю тебя с собою навеки! Обручаю тебя с собою в правде, в любви и благоволении! Обручаю тебя с собою в вере, через которую мы познаем господа!
Они оба были так погружены в свои молитвы, что не слышали раздавшихся сзади них тяжелых и торопливых шагов.
Меир Эзофович быстро прошел по комнате, в которой молились Янкель и жена его, потом, пройдя через комнатку, заставленную кроватями, сундуками и люльками, где еще спали двое маленьких, детей, тихо открыл низенькие двери, ведущие в комнатку кантора.
Было еще серо в предутреннем рассвете.
В голубоватом полусумраке, который наполнял комнатку, обернувшись лицом к окну, стоял Элиазар и тоже молился. Он услышал, как вошел приятель, потому что сразу повернул к нему голову, но молитвы не прервал. Наоборот, он слегка поднял вверх руки и, словно приглашая пришедшего к общей молитве, громко произнес:
— Бог Израиля! Погаси пламень гнева твоего и сними несчастие с головы народа твоего!
Меир стал сзади, в нескольких шагах от молящегося приятеля, и ответил словами, которыми обыкновенно народ отвечает кантору, запевающему молитву:
— Взгляни с небес и узнай, каким презренным посмешищем мы стали среди народов; как ягнят, ведут нас на муку, позор и истребление!
— Но мы не забыли имени твоего; не забудь же и ты о нас! — снова произнес нараспев Элиазар.
Отвечая, таким образом, друг другу, двое юношей произносили вместе одну из красивейших молитв, какие когда-либо возносились к небу из наболевшей человеческой груди. В этой молитве каждое слово — слеза, каждая строфа — аккорд, воспевающий трагические судьбы великого народа.
— О, откажись от своей мести и прояви сострадание к избраннику твоему! — говорил кантор.
— Защити нас, господи, и не отдавай нас в руки жестокосердых! Ибо, зачем же людям говорить: где их бог!
— Услышь вопль наш и не отдавай нас в руки, врагов, стремящихся изгладить имя наше! Вспомни, что ты обещал предкам нашим: «Умножу потомство ваше, как звезды»; а теперь из великого множества нас осталось уже так мало!
— Но мы не забыли имени твоего; не забудь же и ты о нас!
— О страж Израиля, храни остатки Израиля, чтобы не исчез народ, верующий в единое имя твое и говорящий: владыка наш, бог единый!
Вид у обоих приятелей во время молитвы был настолько же различный, насколько различны были их характеры. Элиазар подымал вверх слегка дрожащие руки, голубые глаза его были влажны от трогательного волнения, а слабая фигура его невольно колебалась, словно объятая упоением и восторгом. Меир стоял прямо и неподвижно, скрестив руки на груди, с пылающими глазами, устремленными в голубое небо, с глубокой складкой на лбу, придававшей всему лицу его выражение сдерживаемого гнева и страдания. Оба молились всем сердцем, с глубокой верой в то, что страж Израиля, единый бог, слышит их голоса. Только в конце молитвы души их разъединились. Элиазар пропел мольбу за израильских ученых и мудрецов.
— Поддержи, отец наш небесный, мудрецов Израиля с женами, детьми и учениками их всюду, где бы они ни находились! Взывайте: аминь!
Меир не произнес «аминь». С минуту он молчал, а так как кантор тоже молчал, ожидая ответа, Меир, слегка возвысив голос, начал говорить дрожащими губами:
— Братьев наших из дома Израиля, впавших в бедность и в грехи, где бы они ни находились, выведи как можно скорее из оков на свободу, из темноты на свет! — Взывайте: аминь!
— Аминь! — воскликнул Элиазар и повернулся к приятелю.
Они протянули друг другу руки и обнялись.
— Элиазар! — сказал Меир, — ты выглядишь сегодня не так, как неделю тому назад!
— И ты, Меир, выглядишь не так! — ответил кантор.
— Над нашими головами проплыла только одна неделя, но иногда одна неделя значит больше, нежели десять лет.
— Я в эту неделю много выстрадал, — прошептал кантор.
Меир не жаловался.
— Элиазар — сказал он, — дай мне Морэ-Небухим. Я за этой книгой пришел сегодня к тебе так рано. Мне очень нужна теперь эта книга!
Элиазар стоял с опущенной головой.
— У меня нет уже этой книги! — произнес он тихо.
— А где же она? — спросил Меир.
— Этой книги, из которой в головы наши лился свет, а в сердца — надежда, нет уже на всем свете! Ее пожрал огонь, а пепел ее выбросили в кучу сора…
— Элиазар! Ты испугался и предал ее сожжению? — воскликнул Меир.
— Мои руки не могли бы совершить такое преступление; если бы даже язык мой приказал им сделать это, они бы не послушали его. Но неделю тому назад пришел сюда отец мой и с великим гневом велел мне отдать ему ту «проклятую» книгу, которую мы все вместе читали в шабаш на лугу. Я молчал. Он крикнул: «У тебя ли эта книга?» Я ответил: «У меня». Но когда он опять спросил у меня: «Где она?» — я молчал. Он побил бы меня, но, помня о моей должности в синагоге и о большой любви, которую народ проявляет к моему голосу, он побоялся прикоснуться ко мне. Начал только все разбрасывать в комнате, а когда разбросал постель, то нашел книгу. Хотел отнести ее к раввину, но тут я упал ему в ноги и умолял его не делать этого, потому что за это мне не позволили бы петь перед господом и лишили бы меня той любви, которую народ питает ко мне за мое пение. Отец сам испугался этого, потому что он очень гордится тем, что его сын, такой молодой, пользуется уже большим почетом в синагоге, и думает, что бог пошлет ему успехи в его делах и простит ему все грехи за то, что сын его поет господу перед народом слова молитв. Он не отнес книгу к раввину, но сам бросил ее в пламя, а когда она горела, смеялся и плакал от радости.
— И ты, Элиазар, смотрел на это и ничего не делал? — дрожащим голосом спросил Меир.
— А что мне было делать? — шопотом ответил кантор.
— Я бы спрятал эту книгу на груди… Я бы руками прижал ее к себе… Я бы сказал отцу: «Если ты ее хочешь бросить в огонь, то бросай вместе с ней и меня!»
Эти слова Меир произнес с искрящимися глазами и с ярким румянцем на лице. Элиазар стоял перед ним печальный, пристыженный, с опущенной головой и смотрел в землю.
— Я не мог, — прошептал он, — я боялся, чтобы меня не оттолкнули от алтаря господа и не огласили безбожником перед народом. Но посмотри на меня, Меир, и ты увидишь, не любил ли я писаний нашего учителя так, как душу мою. С тех пор, как их нет в моей комнате, лицо мое побледнело, а веки покраснели от слез.
— О, слезы, слезы твои! — воскликнул Меир, порывисто садясь на стул и закрывая лицо обеими руками. — О, эти слезы, слезы твои, Элиазар! — повторил Меир каким-то странным голосом, не то насмешливым, не то плачущим. — Они вечно текут, не принося ничего хорошего ни тебе, ни мне, ни израильскому народу! Элиазар! Я люблю тебя, как брата! Ты зеница ока моего! Но я не люблю слез твоих и не могу смотреть на твои красные от слез глаза! Элиазар! Не показывай мне никогда своих слез, хоть раз покажи мне огонь в глазах твоих и силу в твоем голосе, к которому народ чувствует такую любовь, что он был бы послушен ему, как дитя матери.
Но у самого! Меира стояли слезы на глазах, когда он бранил приятеля за его склонность к слезам. Он закрыл лицо руками — должно быть, не хотел, чтобы Элиазар видел их. Скорбно раскачиваясь, он продолжал:
— Ой-ой-ой! Элиазар, что ты наделал, отдав эту книгу своему отцу на сожжение! Где достанем мы теперь другой источник мудрости? Где услышим мы теперь голос единственного нашего учителя? Пламя пожрало душу душ наших, а пепел ее выбросили вместе с сором… Разнесут его ветры на все стороны, и если душа нашего учителя увидит, как летит и рассеивается этот пепел, опечалится, разгневается она и скажет: «Вот во второй раз прокляли меня люди!»
И Меир уже не мог больше скрыть страстных рыданий, рвавшихся у него из груди. Крупные и частые слезы сквозь пальцы падали на шероховатую поверхность стола. Вдруг Меир перестал сетовать и плакать. Он замолчал и, не меняя позы, погрузился в тихую скорбь и раздумье.
Элиазар открыл окно.
По песчаной почве базарной площади протянулись там и сям розоватые и золотистые дорожки. Это были первые лучи восходящего солнца. По одной из этих светлых дорожек шел, направляясь к дому Камионкеров, высокий широкоплечий босоногий человек. Тяжелые шаги его вскоре раздались вблизи окна, у которого сидели юноши. Меир поднял голову, и, хотя лицо идущего человека с всклокоченными волосами и опухшими губами только мелькнуло у него перед глазами, он все-таки тотчас же узнал в нем Иохеля.
Несколько минут спустя, тут же за открытым окном, быстро прошли два человека, одетые в черное. Один был высокий, величественный, и мягкая улыбка играла на его лице, другой низкий, проворный, с морщинистым лицом под густыми, пестреющими сединой волосами. Это были — морейне Кальман и Абрам Эзофович.