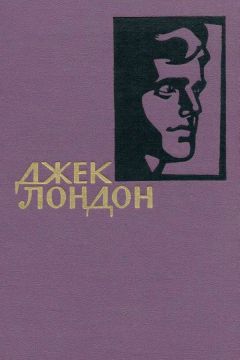Женщины знают, что за пьянство мужчин они заплатили кровавым потом и слезами. Оберегая здоровье нации, они примут меры, чтобы оградить своих будущих сыновей и дочерей.
И это будет так легко. Огорчатся лишь неизлечимые алкоголики, да и то только одного поколения. Я, как один из них, торжественно заверяю на основании долгого знакомства с Ячменным Зерном, что не слишком огорчусь, если придется бросить пить, когда все вокруг меня перестанут делать это и достать спиртные напитки будет невозможно. С другой стороны, большая часть нашей молодежи настолько чужда по своей природе алкоголю, что, не имея к нему доступа, даже не почувствует никакого лишения. Она узнает о кабаках лишь из исторических книг и отнесется к ним, как к чему-то вроде боя быков или сжигания ведьм на кострах.
Конечно, никакая личная повесть не может считаться законченной, пока судьба героя неизвестна до самого последнего момента. В этой книге читатель не найдет исправившегося алкоголика. Я никогда не был алкоголиком и никогда не исправлялся.
Некоторое время тому назад мне пришлось совершить плавание вокруг мыса Горн на паруснике. Путешествие длилось сто сорок восемь дней. Я не захватил с собой спиртного, и хотя виски капитана в любой момент было к моим услугам, за все время я не выпил ни одной рюмки. Я не пил потому, что не чувствовал желания делать это. Никто на борту не пил, подходящей атмосферы не было, а органического влечения к алкоголю я не испытывал.
И тут передо мной стал ясный и простой вопрос: раз это так легко, почему не воздержаться от вина и на суше? Я тщательно взвешивал и обдумывал этот вопрос в течение всех пяти месяцев путешествия. И все это время абсолютно ничего не пил.
В результате на основе своего прежнего опыта я пришел к кое-каким выводам.
Во-первых, я уверен, что на десять или даже сто тысяч человек не всегда найдется один настоящий алкоголик. Употребление спиртных напитков, по моему мнению, — чисто «умственная привычка». Это не то что пристрастие к табаку, кокаину, морфию или другим наркотикам. Влечение к алкоголю возникает исключительно в мозгу. Там же оно развивается и растет, но почвой для него служит общение с людьми. Из миллиона пьющих, пожалуй, ни один не начал пить в одиночестве. Все начинают пить в компании, и привычка к алкоголю укрепляется при этом тысячей возникающих попутно ассоциаций и влияний, о которых я рассказал в первой части этой повести. Эти-то ассоциации и влияния больше всего способствуют развитию привычки к спиртным напиткам. Роль самого алкоголя, по сравнению с ролью общественной атмосферы, в которой его пьют, очень незначительна. Редко можно встретить человека, который чувствовал бы непреодолимое органическое влечение к вину, не привыкнув пить его в компании. Я допускаю, что такие люди существуют, но сам таких никогда не встречал.
За это долгое пятимесячное путешествие я убедился, что алкоголь отнюдь не занимает места среди потребностей моего организма, но зато я обнаружил и другое, а именно, что эта потребность коренится исключительно в уме и общении с людьми. Мысль об алкоголе немедленно вызывала у меня, по ассоциации, представление о дружеской компании, когда же я думал о компании — то ассоциацией был алкоголь. Компания и алкоголь были слиты в моем представлении, как сиамские близнецы. Они никогда не возникали друг без друга.
Читал ли я, лежа на палубе в складном кресле, или беседовал с кем-нибудь из пассажиров, случайное упоминание о какой-либо части земного шара тотчас же вызывало во мне представление о тамошних напитках и друзьях, с которыми я распивал их. Все прекрасные ночи, дни и минуты, все яркие воспоминания и безумства, связанные с этим, начинали тесниться в моей памяти. Я вижу на странице книги слово «Венеция» и тотчас же вспоминаю столики в кафе и на тротуарах. «Битва при Сантьяго», — говорит кто-то, и я отвечаю: «Да, я бывал там». Но я не вижу перед собой ни места битвы, ни Кетл-Хилл, ни Дерево Мира, а только кафе «Венера» на площади Сантьяго, где я однажды знойным вечером пил и беседовал с одним человеком, умиравшим от чахотки.
Я слышу название лондонского Ист-Энда — и передо мной встают освещенные трактиры, а в ушах раздаются крики: «На два пенса горькой!», «На три шотландского!» Латинский квартал… Я сразу вижу себя в студенческом кабачке: вокруг веселые и возбужденные лица, все мы пьем холодный, хорошо очищенный абсент, в то время как взволнованные и хриплые голоса, спорящие о Боге, искусстве, демократии и других столь же простых проблемах существования, становятся все громче и громче.
Во время бури в Рио де Ла-Плата мы решаем в случае аварии зайти в Буэнос-Айрес — американский Париж. И в моей памяти тотчас встают залитые светом переполненные кафе, я слышу звон поднятых стаканов, песни, веселье и гул возбужденных голосов. Попав затем в полосу северо-восточных муссонов в Тихом океане, мы уговариваем нашего капитана зайти в Гонолулу; причем, убеждая его, я вспоминаю прохладные террасы, на которых мы так часто пили коктейли и шампанское, что нам подавали на берегу в Вайкики. Кто-то из пассажиров рассказывает, как приготовляют в Сан-Франциско диких уток, и я немедленно переношусь в шумный освещенный зал ресторана и сквозь бокалы золотистого рейнвейна различаю лица старых друзей.
Я пришел в результате к тому заключению, что с удовольствием посещу вновь все эти прекрасные места, но только при одном условии — со стаканом в руке. В этой фразе есть что-то магическое. В ней содержится гораздо больше значения, чем в словах, из которых она состоит. Я всю свою жизнь прожил в атмосфере, которую как нельзя лучше отражает эта фраза — со стаканом в руке. Она сделалась теперь частью меня самого. Я люблю сверкающее остроумие, сердечный смех, звенящие голоса мужчин, когда со стаканом в руке они захлопывают дверь в серый мир и начинают жить новой, безумной, радостной, ускоренной жизнью.
Нет, решил я, при случае я буду пить. Несмотря на мудрые мысли, усвоенные и переработанные мной, я спокойно и сознательно решил продолжать делать то, к чему привык. Я буду пить, но умереннее, осторожнее, чем раньше. Я не позволю себе превратиться снова в ходячий факел и никогда не призову Белую Логику. Теперь я знаю, как уберечь себя от этого.
Белая Логика похоронена теперь рядом с Долгой Болезнью. Ни та, ни другая не станут больше тревожить меня. Долгую Болезнь я похоронил уже много лет назад. Она спит непробудным сном, так же как и Белая Логика. Теперь в заключение я могу сказать лишь одно: я глубоко сожалею о том, что мои предки не уничтожили своевременно Ячменное Зерно. Я жалею о том, что Ячменное Зерно по-прежнему процветает на каждом шагу в том обществе, где я родился. Иначе я не познакомился бы и не сблизился бы с ним до такой степени.
В штате Невада живет женщина, которой я однажды бесстыдно лгал несколько часов подряд. Я не намерен извиняться перед нею. Я далек от этого, но хотел бы объясниться. К несчастью, я не знаю ни ее имени, ни, тем более, ее теперешнего адреса. Если ей случайно попадутся на глаза эти строки, она мне, надеюсь, напишет.
Это было в Рено, в Неваде, летом тысяча восемьсот девяносто второго года. Время было ярмарочное, и город кишмя кишел мелкими жуликами и прощелыгами, не говоря уже об орде голодных бродяг. Голодные бродяги и превратили город в «голодный».
«Тут не раздобудешь жратвы!» — говорили об этом городе бродяги в подобный сезон. Я, по крайней мере, много раз оставался без обеда, хотя мастерски умел «стрелять», «обивать калитки», «набиваться на посиделки» в кухне, «клянчить монетку» на улице. Однажды мне пришлось так круто в этом городе, что я, прошмыгнув под носом носильщика, вскочил в частный вагон некоего путешествующего миллионера. Поезд тронулся в тот момент, когда я прыгнул на площадку, и я наткнулся на хозяина вагона, миллионера, как раз тогда, когда кондуктор одним прыжком нагнал меня. Оба мы достигли каждый своей цели в одно и то же мгновение. Времени для формальностей не оставалось.
— Четвертак на жратву! — гаркнул я.
Клянусь жизнью — миллионер полез в карман и дал мне… ровно… ну, ровнёхонько… двадцать пять центов! Полагаю, он так был ошеломлен, что повиновался машинально, и я потом страшно жалел, что не потребовал доллар. Я уверен, что получил бы его! Я соскочил с площадки вагона, причем кондуктор едва не стукнул меня ногой в физию. Он промахнулся! Очень это опасная затея — соскакивать с нижней ступеньки вагона, в то время как разъяренный эфиоп норовит с площадки тяпнуть тебя по физиономии. Но я получил четверть доллара! Все же получил!
Вернемся, однако, к женщине, которой я беззастенчиво солгал. Это было в последний день моего пребывания в Рено. Я был на ипподроме, на бегах пони, и проворонил обед (или, вернее, полдник). Я был голоден; вдобавок только что был образован комитет общественной безопасности в целях избавления города от голодных бродяг, подобных мне. «Дядя Закон» уже зачерпнул охапку моих собратьев-бродяг, и солнечные долины Калифорнии настойчиво звали меня перемахнуть через холодные гребни Сиерры. Перед тем как отряхнуть с ног прах города Рено, мне оставалось сделать два дела: во-первых, забраться на тормозную площадку багажного вагона в поезде, отходившем на запад ночью; во-вторых, предварительно раздобыть провиант. Пуститься в далекий ночной путь на наружной площадке поезда, с бешеной скоростью несущегося через выемки, туннели и вечные снега поднебесных вершин, и проделать это на пустой желудок — перед этим спасует и сильный юноша. Но «раздобыть провиант» оказалось трудной задачей. Меня выпроводили из доброй дюжины домов. В некоторых из них по моему адресу отпускали обидные замечания и намеки на некоторое помещение за решеткой, которое было бы моим уделом, получи я причитающееся мне по заслугам. И хуже всего то, что эти замечания не слишком далеки были от истины. Вот почему в этот вечер я удирал на запад. «Дядя Закон» гулял по городу, тщательно выискивая голодных и бездомных — для них-то и содержатся заведения за решеткой.