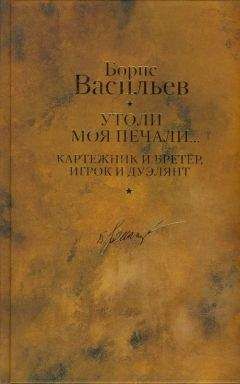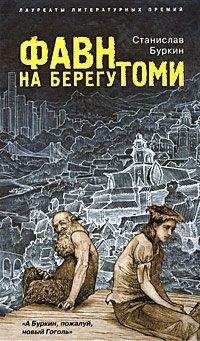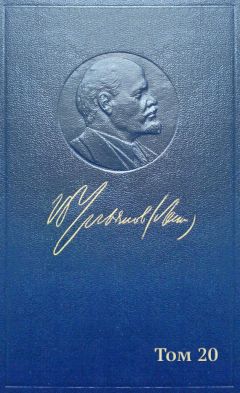– Вон он, вон, гляди, стоит, – прошептал мельник и сел в траву.
Николай Николаевич, быстро подойдя, увидел за разбитой толстой ветлой Георгия Петровича, он действительно, отогнув ветку, глядел, согнувшись, на то место воды, откуда слышались плеск и голоса. Затылок у него был красный, а рубашка под мышкой потная., Николай Николаевич ничего больше не сознавал, кроме одного слова, которое и крикнул, подскочив и со всей силой дернув Георгия Петровича за плечо.
Сомов отшатнулся, в ужасе еще не разбирая, кто его накрыл. Затем они мгновение глядели друг на друга. Стабесов еще раз глухо повторил это слово. Сомов стал наглеть, смелеть и расправил плечи.
– Убирайтесь к черту, – сказал он.
И только тогда Стабесов сознал, что нельзя ни отступить, ни по-человечески окончить свой поступок. Он сжал зубы, стиснул пальцы руки, но не успел. Сомов словно мехом каким выдохнул из себя: «эх», и кулаки его пронеслись над головой Николая Николаевича, опустились на плечи, холодными пальцами он обхватил шею его и опрокинул Стабесова в траву.
Белая потная рубашка, лист лопуха сбоку, ветка, кусок облака, синее небо медленно поплыли в темноту; Николай Николаевич последним усилием ударился коленками в жирный бок, хотел вздохнуть и потерял сознание.
Наташа купалась на этот раз до ознобу, до синих губ, и все же не вернулись к ней ни ясность духа, ни спокойствие, она только постукивала зубами, одеваясь, и прямо с пруда прошла к себе. Возни в кустах она не услыхала.
Расчесывая перед туалетом волосы, она рвала их гребенкой, швыряла по столику банки и пузырьки, глядя в зеркало, думала: «Дура!» Наконец, бросив гребень на пол, облокотилась, закрыла лицо и проговорила скеозь слезы:
– Зачем ляпнула, кому это надо было, – жених! Хорош жених! Ох, боже мой, конечно, теперь все кончено. Все тетка виновата. Уговорила. Кому могла глупость такая в голову прийти —.позвать, объявить его женихом.
Сейчас же она решила, что из комнаты этой не выйдет больше никогда. И пускай тетка сама разговаривает с Георгием Петровичем. Сама же Наташа не только не выйдет, но ляжет еще на постель и будет реветь, пока что-нибудь не случится.
Затем она поспешно закрутила волосы, заткнула их шпильками и сбежала вниз.
Ни в дому, ни на кухне Варвары Ивановны не было. Кухарка посоветовала кинуться на погребицу, и Наташа сошла с черного крыльца на заросший двор, обстроенный бревенчатыми службами. К ней подошла овчарка и стала лизаться, и, в густой до колен траве, под полуденным солнцем, решила Наташа, что упустила великое счастье, что Николай Николаевич, увидев ее такого жениха, и встречаться не станет, и уедет, и скажет, конечно, что она просто скверная, глупая, лгунья.
На погребице тетки тоже не оказалось. Проходя по задам к скотному двору, Наташа увидела вдалеке мельника и Феклушу, которая ударяла себя по бедрам, очевидно дивилась, мельник же крестился и тыкал через плечо большим пальцем на пруд; затем оба они куда-то убежали. Наташа вошла на пустой скотный двор; под поветями, подняв юбки от блох, прохаживалась Варвара Ивановна, в старой шляпке пирожком и с перышком; она оглядывала требующие починки постройки и покачивала головой, очевидно думая о постороннем.
– Тетка, я очень несчастна! – крикнула ей Наташа.
– Юбки, юбки подбирай, ах, какая ты неосторожная, – сейчас же ответила Варвара Ивановна. – Ну, что еще случилось?
– А то случилось, что я ваших советов слушать не хочу, навязали мне толстого идиота, любите сами.
И Наташа рассказала, какое ужасное впечатление на Стабесова произвели ее слова: он в одну минуту стал чужим человеком, Георгий же Петрович до того обрадовался и обнаглел, что едва не попал ей в лицо мячиком, и вообще она его ненавидит, как только возможно.
– Да, я действительно ошиблась, плохо сообразила, – проговорила Варвара Ивановна, весело глядя на девушку, – ты уж меня, пожалуйста, прости; ну где же мне сообразить, когда ты так меняешься, вчера еще другим человеком была; уж очень вы скоро живете, вот что; за вами не поспеешь.
И, обнадежив, что она поговорит и все устроит, тетка повернулась к забору, поковыряла палочкой прогнившие доски и сказала:
– Вот в позапрошлом году только переменили, опять гнилье; послушай, Наташа, а он тебе очень нравится?
– Кто это? кто? – всполохнулась Наташа. – Ах, не знаю, о чем спрашиваете. Я сама не своя… Откуда это вы взяли! Ну, конечно…
Николай Николаевич ощупывал голову, шею и бока, сидя в траве; все тело очень ослабло, но поломки нигде не было; он сообразил, что жив, и подумал: «Теперь добраться домой и лечь», – с трудом приподнялся, встал на ноги, сделал несколько шагов и остановился.
– Вот что вышло, – проговорил он вслух, – так, так, значит надо его найти.
Он двинулся в другую сторону; рассудок его работал быстро, почти бессознательно, он вылил еще одну фразу:
– Что же поделать, не бежать отсюда, в самом деле.
В это время появились страшно любопытные мельник и Феклуша; Николай Николаевич круто повернул к теннису; чем дальше он шел, тем яснее становилось, что жизнь его свелась ко второй встрече с Георгием Петровичем, ни обойти ее, ни увернуться было нельзя, только перешагнуть или погибнуть.
Он заглянул на теннис, обошел цветник, качели, балкон, нижние комнаты дома, спустился во двор, – все точно провалились на усадьбе, только за отворенными дверями конюшни, у ворот, слышались голоса и топот. Вдруг из темноты конюшни, стуча копытами по съезду, выехал верхом на рыжем мерине Георгий Петрович. Он повернулся в седле, пристально поглядел на Стабесова, ударил мерина плетью и рысью выкатил за ворота.
– Подожди! – не своим голосом закричал Николай Николаевич, кинулся было вслед, но сейчас же стал и глядел, как над толстым задом лошади подпрыгивает враг его в раздувающейся рубашке, в голубом картузе.
Если бы Георгий Петрович догадался прямо из ворот нырнуть в кусты, а Стабесов не глядел бы ему в угон, то жизнь Николая Николаевича повернула бы, может быть, с этой минуты но другой колее. Убегать, все время на виду, очень опасно, и еще опаснее глядеть убегающему в спину, – просыпаются заглохшие инстинкты, и спокойному даже человеку хочется пуститься, догнать и свалить.
Николай Николаевич вбежал в конюшню, сорвал со стены узду, накинул ее на первого от него вороного жеребца, который только что хотел пошутить – словит» вошедшего губами, вывел на двор; жеребец был племенной, черный, как крыло; Стабесов вскочил верхом, жеребец дал свечу, кинул задом и вылетел за ворота; сорвало шляпу, ветер зашумел в ушах, промелькнули кусты, избушка, и навстречу понеслись, словно дребезжа, березовые стволы подъездной аллеи…
Едва удерживаясь, Николай Николаевич вылетел в поле и в полуверсте увидел во ржах подпрыгивающую белую спину.
Стабесов не робел больше, не думал; дикая радость погони, свистящего ветра, лошадиного запаха захватила дыхание. Жеребец, мерно сгибаясь и разгибаясь, настигал, опустив морду, ударяя копытами в пыль.
Георгий Петрович настолько приблизился, что стало видно его оборачивающееся, испуганное лицо. В десяти шагах жеребец наддал, Николай Николаевич поравнялся и тут только подумал: что делать дальше? Сомов молча, со страхом и недоумением поглядел в глаза. Николай Николаевич поднял руку, жеребец проскочил; Стабесов стал осаживать, опять поравнялся и, быстро вытащив из заднего кармана револьвер, зажмурился и выстрелил.
«Не то, не то, гадость, нельзя», – подумал он тотчас и увидел, как исказилось лицо Георгия Петровича на шарахнувшемся мерине. Сомов казался слишком толстым и живым, чтобы его можно было убить. Да и убить кого-то в мыслях, с разбегу, не глядя – еще понятно, но поднять револьвер и, видя живое лицо, выстрелить в него и знать, что оно запрокинется, упадет в пыль и само станет пыльным и уж нечеловеческим, – было немыслимо.
– Эй ты, мерзавец, – сказал Николай Николаевич, – я тебя убью!
– Нельзя, нельзя, не стреляйте, – быстро ответил Сомов.
– Молчи. Я тебе приказываю молчать.
– Что вам от меня нужно?
– Я тебе покажу, что нужно, поверни назад. Некоторое время они скакали молча. Вдруг из-под горы появилась мельница, красные крыши, деревья и впереди всего каменные ворота сомовской усадьбы. Облака снежными темными громадами поднимались из-за края земли и прикрыли солнце. Оно выпустило из-за них три широких луча, а далеко внизу над квадратами полей опустилась косая борода дождя.
– Вот мы подъехали, заедемте к нам, поговорим, – сказал Георгий Петрович. Стабесов кивнул головой, ему вдруг показались ничтожными и обида, и месть, и предстоящий разговор; он сделал все, что требовала в нем возрожденная сила, и даже переступил грань: после выстрела он почти с удовольствием глядел, как Сомов, живой и толстый, скачет на лошади; выстрел словно опалил Николая Николаевича, сказал: стой, здесь конец, есть иное – глубже, лучше, сильней.