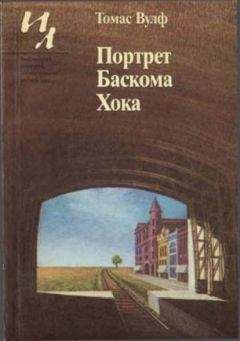Здесь все было в движении, все блистало и лучилось чувственным теплом, роскошью и весельем. Жизнь поезда, казалось, вся сосредоточилась в этом месте. Официанты — расторопные, ступающие с ненарушимой устойчивостью — проворно сновали по проходу бешено мчащегося вагона и, задерживаясь у столиков, обслуживали посетителей, раскладывая по тарелкам вкусно приготовленные кушанья из больших посудин, которыми были уставлены подносы. За официантами следом ходил sommelier[24]; он откупоривал длинные запотевшие бутылки рейнского вина — бутылку зажимал между колен, выдергивал пробку, раздавался бодрящий хлопок, и пробка летела в специальную корзиночку.
За одним из столиков сидела прелестная женщина с обрюзгшим стариком. За другим гигант, могучего вида немец в рубашке с воротником «апаш» (бритый череп, лицо огромного хряка, лоб одинокого мыслителя), с сосредоточенным видом скотского вожделения пожирал глазами поднос, откуда официант накладывал ему мясо. При этом немец плотоядным и как бы прямо из чрева исходящим голосом говорил: «Ja!.. Gut!., und etwas von diesem hier auch…»[25]
Сцена, полная богатства, силы и роскоши; один взгляд — и сразу чувствуешь, что ты и впрямь путешествуешь в первоклассном европейском экспрессе, — ощущение, резко отличающееся от того, которое испытываешь, когда едешь в американском поезде. В Америке поездка по железной дороге вызывает прилив буйного ликования пополам с тоской: всем существом осязаешь эти дикие, неогороженные, безграничные и невозделанные просторы страны, по которой проносится поезд, а при мысли о зачарованном городе, куда ты стремишься, тебя распирает безмолвная, невыразимая в словах надежда на исполнение неясных и сказочных обещаний той жизни, что тебя там ждет.
В Европе состояние радости и удовольствия более реально, непреходяще. Роскошные поезда, богатое убранство, темный пурпур, глубокая синева, свежая, яркая окраска вагонов, хорошая еда и искрящееся, веселящее вино, да и вид пассажиров — жизнелюбивых космополитов-богачей, — все это вселяет ощущение силы и чувственной радости, намекает на близость неминуемого исполнения желаний. За считанные часы, окруженный миром насыщенной культуры и многолюдством целых наций, ты переносишься из страны в страну, через века и эпохи, от одного экскурсионного рая к другому.
И взамен буйного ликования и безымянной надежды, которая появляется при взгляде из окна американского поезда, здесь, в Европе, ощущаешь невероятную радость осуществления, моментальное, осязаемое удовлетворение, словно на свете нет ничего, кроме богатства, силы, роскоши и любви, а жить и наслаждаться этой жизнью во всем бесконечном разнообразии удовольствий предстоит вечно.
Юноша поел и расплатился и снова принялся пробираться по вагонам — коридор за коридором, по всей длине мчащегося состава. Добравшись до своего купе, он увидел, что призрак лежит, все так же вытянувшись на своем диванчике, и яркие отблески луны по-прежнему озаряют его птичий профиль.
Лежащий не изменил своей позы ни на дюйм, однако юноше показалось, что произошла какая-то неуловимая, но пагубная перемена, хотя, в чем она заключалась, определить он бы не взялся. Что изменилось? Он сел на свое место и некоторое время неотрывно смотрел на безмолвно тающие во мраке контуры человека напротив. Он что — не дышит? Подумав, юноша почти уверил себя в том, что дыхание есть: исхудалая грудь вздымается и опадает; и все-таки полной ясности не было. Зато совершенно ясно он увидел полоску, багрово-черную в оттененном луной сумраке, протянувшуюся из уголка плотно сомкнутых губ, и на полу большое багрово-черное пятно.
Что теперь надо сделать? Что теперь можно сделать? Навязчивый свет губительной луны, казалось, опутал душу своей черной магией, погрузил ее в трясину безмерной вялости и апатии. Вдобавок поезд тоже ослабил свой бег, показались первые огоньки города; это был конец путешествия.
И вот поезд все медленнее подходит к станции. На подъездных путях посверкивание рельсов, маленькие фонарики стрелок и светофоров, горящие ярко и строго, — зеленые, красные, желтые, мучительно резкие в темноте; поодаль низкие товарные платформы и сцепки неосвещенных поездов, пустых и темных, только что покинутых жизнью и замерших в чутком и странном ожидании. Потом мимо окон экспресса неспешно поплыли длинные станционные перроны, и вот уже с козлиной прыткостью забегали крепыши носильщики, нетерпеливо жестикулируя, переговариваясь, окликая пассажиров, которые тут же принялись передавать свой багаж в окна.
Юноша осторожно вынул из сетки над головой свой чемоданчик, взял пальто и ступил в узкий коридор. Беззвучно задвинул за собой скользящую дверь купе. Потом снова приотворил ее и секунды две постоял в нерешительности, глядя в купе. В полумраке виднелся призрачный абрис человека, с трупной неподвижностью лежащего на застеленном диванчике.
Не благо ли это — в конце пути безмолвно оставить все как есть? Не может ли быть так, что этот великий сон времени, в котором мы живем, в котором мы все — движущиеся тени, с наивысшей несомненностью позволяет нам утверждать только одно: встретились, поговорили, мгновение были знакомы, пока нас мчало по этой земле куда-то вперед сквозь тьму из одной точки времени в другую, и надо счесть за благо этим удовлетвориться, расстаться так же, как встретились, и пусть каждый в одиночку движется к назначенной ему цели, лишь в одном нуждаясь и лишь одно зная твердо — что всем нам достанется безмолвие и ничего, кроме безмолвия, в конце пути?
Поезд окончательно остановился. Юноша прошел в конец коридора и спустя мгновение, ощутив кожей бодрящий ожог ледяного ветра, вбирая легкими животворный, пахнущий снегом воздух, он уже шел по перрону вместе с сотней других людей, идущих все в одну сторону — кто-то к дому и несомненности, кто-то к новым местам и надеждам, к голоду и переполняющему предвкушению радости, к обещаниям городских огней. А про себя он знал, что едет теперь домой.
В тот год мы жили, кажется, с Беллой. Хотя, что я, мы, наверно, жили с тетей Кейт — или нет, может, еще с Беллой. Не знаю, мы так часто переезжали и так давно это было. У меня уже все перепуталось в голове. Когда папа играл, он вечно носился, он не мог усидеть на месте, то он играл в Нью-Йорке, а то уезжал на гастроли с мистером Мэнсфилдом, и тогда он пропадал месяцами.
Одним словом, в тот вечер после спектакля мы вышли на улицу и свернули на Бродвей. Нам с ним обоим бывало до того хорошо, до того весело, что мы чуть не скакали от радости, так и было в тот вечер. Был чуть не первый хороший день весны, воздух прохладный и тонкий, но уже нежный, а небо как из лилового бархата и сияло крупными звездами. Улицы возле театра кишели пролетками, частными каретами, ландо, они без конца подъезжали к театру, и в них садились, садились.
Все мужчины были хороши собой, женщины все были красотки. Все казались веселыми, возбужденными, как мы сами, будто совсем новый мир, совсем новые люди повылезли из земли с наступленьем весны — все уродливое, нудное, противное, грубое исчезло, — улицы искрились, кипели жизнью. Я видела это асе, чувствовала себя его частицей, хотела все это вместить, и что-то такое мне хотелось сказать до того, что даже горло заболело, но я не могла сказать, потому что тех слов, какие мне хотелось, у меня не было. А другого ничего я сказать не могла — все выходило глупо, и вдруг я схватила папу за плечо и крикнула:
— Быть сегодня в апреле в этот день Англии![26]
— Да! — закричал он. — И в Париже, Неаполе, Риме, и в Дрездене! И быть в Будапеште! — крикнул папа, — в этот день апреля, где заря приходит в бухту, словно гром из-за морей![27]
Он будто стал опять молодой, стал как тогда, когда я девочкой, бывало, стучусь, прошусь к нему в кабинет, а он оттуда дивным актерским голосом: «Войди, о дщерь запустенья, под сей убогий кро-ов».
Глаза у него сверкали, и он запрокинул голову и захохотал своим счастливым, неистовым смехом.
Наверно, это было за год до его смерти. Мне было около восемнадцати. Ну и красотка же я была — просто персик…
В те времена, если он играл, я его встречала после спектакля, и мы шли куда-нибудь ужинать. Вот бы вы с ним спелись… Все только самое-самое лучшее ему подавай. В Нью-Йорке в те времена было изумительно. Столько дивных мест, куда можно пойти, не знаю, не знаю, и ни шума этого, ни сутолоки, иногда кажется — ну просто другой мир. Хочешь — к Уайту или к Мартину, к Дельмонико — бездна дивных мест. А еще одно место было, называлось «У Мока», я там никогда не была, но чуть не первое, что помню с детства, — это как папа приходит домой поздно ночью и говорит, что был у Мока. Он приходит, и я слушаю, как шипит в комнате у меня горелка, а слышу, как он и другие актеры разговаривают с мамой. Бесподобно. Иногда говорили все про Мока. «А, значит, ты был у Мока?» — мне казалось, говорила мама. «А как же! У Мока!» — говорил папа. «И что же ты ел у Мока?» — говорила мама. «A-а, я ел устриц и выпил стакан пива, а еще я ел шоколад «Мокко» у Мока», — говорил папа.