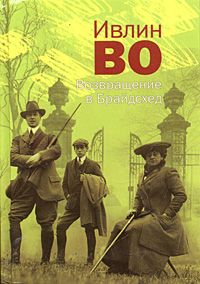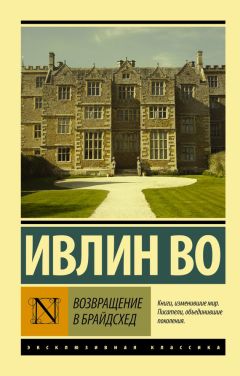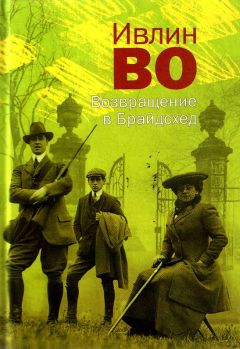– Послушайте, – сказал Рекс. – Может быть, то, что вы говорите, так и есть; может быть, строго по закону мне нельзя венчаться в вашем соборе. Но ведь собор уже заарендован; там никто не будет задавать вопросов; кардиналу ничего не известно; отцу Моубрею тоже. Никто, кроме нас самих, ничего не знает. Так зачем же затевать всю эту катавасию? Мы – молчок, и пусть все совершится законным порядком, словно ничего и не было. Кому от этого хуже? Ну, допустим, я рискую угодить в ад. Хорошо, я согласен, иду на риск. Ну а еще-то кому что до этого?
– В самом деле, – сказала Джулия. – Я не верю, что святым отцам все известно. И не верю, что за такие вещи попадают в ад. И уж не знаю, верю ли, что он вообще существует. И, во всяком случае, это наша забота. Никто вас не просит рисковать своим вечным спасением. Только не лезьте, и все.
– Джулия, я тебя ненавижу! – выпалила Корделия и хлопнула дверью.
– Мы все устали, – сказала леди Марчмейн. – Если не все еще сказано, предлагаю вернуться к обсуждению завтра утром.
– Но тут нечего обсуждать, – возразил Брайдсхед, – разве только, как наиболее тактично поставить точку в этой истории. Мы с мамой решим все сами. Вероятно, надо будет поместить объявление в «Тайм» и в «Морнинг пост»; подарки придется разослать обратно. Мне не известно, как в таких случаях следует поступать с туалетами подружек невесты.
– Одну минутку, – сказал Рекс. – Одну минутку. У вас, может быть, есть возможность воспрепятствовать нашей свадьбе в вашем соборе. Ну и хорошо, к черту, тогда мы обвенчаемся в протестантской церкви.
– Я могу воспрепятствовать этому тоже, – сказала леди Марчмейн.
– Да, мамочка, но ты этого не сделаешь, – возразила Джулия. – Видите ли, я уже давно любовница Рекса и останусь ею, венчанная или невенчанная.
– Рекс, это правда?
– Нет, черт подери! И очень жаль.
– Я вижу, нам все равно придется вернуться завтра утром к этому обсуждению, – слабым голосом проговорила леди Марчмейн. – Сейчас я продолжать не в силах.
И ей пришлось, подымаясь в спальню, опереться на руку сына.
– Что могло побудить тебя брякнуть такое матери? – спросил я, когда спустя многие годы Джулия описала мне эту сцену.
– Рекс тоже задал мне этот вопрос. Я думаю, наверно, я считала, что это правда. Не в буквальном смысле – хотя не забывай, мне было только двадцать лет, а «реалии жизни» нельзя усвоить с чужих слов, – но я, конечно, не имела в виду, что это была правда в буквальном смысле. Просто я не знала, как иначе выразиться. Я чувствовала, что слишком глубоко связана с Рексом, чтобы просто сказать: «Назначенное бракосочетание отменяется» – и на том покончить. Я хотела быть порядочной женщиной. Я, если на то пошло, этого и потом все время хотела.
– А дальше?
– А дальше разговоры все продолжались и продолжались. В них приняли участие святые отцы, в них приняли участие тетки. Было выдвинуто много разных предложений: чтобы Рекс поехал в Канаду; чтобы отец Моубрей поехал в Рим и выяснил, нельзя ли как-нибудь подать на аннуляцию; чтобы я поехала на год за границу. В самый разгар всего этого Рекс просто взял и телеграфировал папе: «Джулия и я предпочитаем свадьбу по протестантским канонам. Будут ли возражения?» Папа ответил;
«Весьма рад», – и это положило конец маминому законному праву вмешательства. Потом было еще много всяких уговоров – меня возили для бесед со святыми отцами, с монахинями, с тетками. А Рекс спокойно – или почти спокойно – вел свою линию.
О Чарльз, что это была за жалкая свадьба! Тогда разведенных венчали в Савой-Чейпел – убогой, жалкой церквушке, совсем не такой, как мечталось Рексу. Я была за то, чтобы просто зайти в одно прекрасное утро в бюро регистрации и покончить с этим делом, пригласив двух прохожих в свидетели, но Рексу во что бы то ни стало нужны были подружки, и флердоранж, и «Свадебный марш». Это было кошмарно.
Бедная мама держалась, как святая мученица, и настояла, чтобы я, несмотря ни на что, взяла ее кружева. Правда, она не могла бы, в общем-то, поступить иначе – свадебное платье было задумано вокруг них. На свадьбу пришли, конечно, мои друзья и всякие Рексовы сообщники, которых он именовал друзьями; остальные гости подобрались очень странно. Из маминых родных не было, разумеется, никого; из папиных – двое или трое. Важная публика не пришла – все эти Энкореджи, Чазмы, Ванбруги, – и я про себя думала: «Ну и слава богу, что не пришли, они и без того всегда смотрели на меня свысока», но Рекс был в ярости, потому что ему-то как раз они и были нужны.
Сначала я надеялась, что гостей вообще не будет. Мама сказала, что в Марчерс мы не можем приглашать, а Рекс хотел телеграфировать папе и набить полный дом всевозможными лакеями, официантами и горничными во главе с адвокатом нашей семьи. В конце концов было решено устроить дома накануне свадьбы вечер с демонстрацией подарков – видимо, отец Моубрей считал, что это допустимо. Ну а никто не в силах устоять от соблазна полюбоваться своим собственным подарком, так что вечер вполне удался; но вот прием, который на следующий день устроил Рекс в «Савое» для присутствовавших на свадьбе, был одно убожество.
Неизвестно, что было делать с арендаторами; В конце концов Брайди поехал и задал им обед с большим костром в парке, хотя они ожидали гораздо большего за свою серебряную суповую миску.
Тяжелее всех переживала все бедняжка Корделия. Она так мечтала, что будет подружкой у меня на свадьбе, – мы с ней любили разговаривать об этом еще задолго до того, как я начала выезжать, – и потом, конечно, она очень набожная девочка. Сначала она перестала со мной разговаривать. Потом, утром в день свадьбы – я накануне вечером переехала к тете Фанни Роскоммон, было сочтено, что так будет удобнее, – она ворвалась ко мне, уже побывав на Фарм-стрит, кинулась ко мне вся в слезах, когда я еще лежала в постели, и стала умолять, чтобы я не венчалась, потом обняла, подарила чудную брошечку, которую сама купила, и сказала, что молится за меня, чтобы я была счастлива всю жизнь. Всю жизнь счастлива, Чарльз!
Словом, это была совсем не модная свадьба. Знакомые приняли мамину сторону, как и всегда, и, как всегда, ей от этого было не легче. Всю свою жизнь мама пользовалась сочувствием всех людей, но только не тех, кого любила. В обществе говорили, что я поступила с нею безобразно. И вышло так, что бедный Рекс оказался женат на изгойке, а это было как раз обратное тому, чего он добивался.
Так что, как видишь, обстоятельства с самого начала приняли неблагоприятный оборот. Над нами тяготело заклятье. Но я все равно была без памяти влюблена в Рекса.
– Странно себе это представить.
– Понимаешь, отец Моубрей с первого взгляда разгадал о нем правду, на постижение которой у меня ушел год супружеской жизни. Он просто умственно неполноценный. Не человек, а только какая-то неестественно разросшаяся часть человека, культивированная в пробирке, что ли. Я думала, что он нечто вроде первобытного дикаря, но он не первобытный, а, наоборот, очень современный, самое последнее измышление нашего ужасного века. Небольшая часть человека, прикидывающаяся цельным человеческим существом. Слава богу, теперь все позади.
Она сказала мне это десять лет спустя, во время шторма в Атлантике.
Я вернулся в Лондон весной 1926 года во время Всеобщей забастовки.
В Париже только и разговоров было, что об этом. Французы, как всегда радующиеся бедам своих бывших союзников и переводящие на точный язык своих понятий наши более туманные островные представления, предсказывали революцию и гражданскую войну. Каждый вечер газетные киоски торговали пророчествами о гибели, а в кафе знакомые полунасмешливо говорили: «Ага, мой друг, здесь-то вам поспокойнее, чем дома, а?»– пока, в конце концов, я и еще несколько человек, оказавшихся в таких же обстоятельствах, не уверовали, что наша родина в опасности и долг призывает нас туда. Перед отъездом к нам присоединился бельгиец-футурист, живший под вымышленным, как я полагаю, именем Жана де Бриссака де ла Мотта, который считал своим правом сражаться с оружием в руках во всякой битве на земном шаре, ведущейся против низших классов.
Наша мужская компания в едином порыве одушевления переехала через Па-де-Кале, ожидая застать в Дувре картину, столь часто и со столь малыми изменениями повторявшуюся в последние годы во всех концах Европы, что у меня по крайней мере уже сложилось яркое зрительное представление о том, что такое революция – красный флаг на почтамте, перевернутый трамвайный вагон, пьяные сержанты, открытые ворота тюрьмы. и шайки выпущенных на свободу преступников, шныряющие по улицам, и вокзал, на который так и не прибыл по расписанию поезд из столицы. Об этом мы, что ни день читали в газетах, смотрели кинофильмы, слушали рассказы за ресторанными столиками вот уже шесть или семь лет подряд, и это стало частью нашего жизненного опыта из вторых рук, подобно грязи на полях Фландрии или мухам Месопотамии.