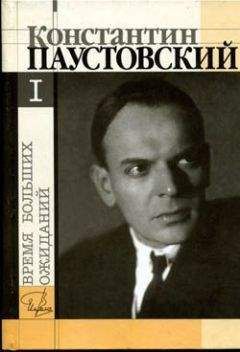Ознакомительная версия.
Кира долго молчала, никак не могла окончательно проснуться. На шляхе мы встретили мажару. Она везла па мельницу два мешка с пшеницей. Очевидно, из-за жары мельница работала ночью.
Потом Кира почувствовала под сожженными пятками нежащую остывающую пыль на шляхе и засмеялась.
– А воробьи, – сказала она, – купаются в пыли. Я сама видела. Я бы тоже выкупалась, но только вы не позволите.
Она, конечно, хитрила, и это было видно по ее прищуренным глазам.
Жаркие дни медленно сменялись, но ни Регинин, ни Торелли не приходили за мной и за девочкой. Я начал уже всерьез беспокоиться, не случилось ли чего-нибудь с матерью Киры. Кира тоже заскучала и начала просить меня, чтобы я отвел ее домой, в Одессу. Я же всячески заминал разговор о возвращении и прикидывался беспечным и веселым.
Наконец я сдался и совсем уже выбрал время, чтобы возвращаться в город, но случилось довольно глупое обстоятельство. Оно разрушило мои планы.
Дело в том, что, несмотря на кражу дров в Аркадии с Яшей Лифшицем, я вовсе не вор, никогда им не был и вряд ли им буду.
Но на 16-й станции мне пришлось еще раз своровать, на этот раз не дрова, а самые обыкновенные помидоры.
У меня не осталось ничего, что бы поменять на продукты. Про свою старую рубаху я старику мельнику соврал. Почему – сам не знаю. Слабую надежду на то, что Кларисса еще раз сжалится над девочкой и даст немного овощей, пришлось отбросить. Во-первых, Кларисса до сих пор не вернулась от своего батьки, а во-вторых, я понимал, что при возможных женских надеждах Клариссы на меня одалживаться у нее нельзя.
Воровать помидоры я пошел ночью и, понятно, ничего не сказал об этом Кире. И получилась чепуха. По своей близорукости я споткнулся в темноте, старый сторож по прозвищу Будка-Халабудка вскрикнул, выстрелил и всадил мне в спину пониже, лопаток заряд куяльницкой грязной соли.
Старый сторож был так удручен своим метким выстрелом, что решил загладить вину и подарил мне корзину отборных помидоров. Выходило, что я пострадал совершенно зря.
Соль, разлетаясь веером, задела меня очень слабо. Но все равно боль была адская. Битых два часа я примачивал ранки пресной водой из родника, закидывая себе за спину мокрую тряпку. Я не перевязал ранки: не было ни кусочка бинта, – а только сидел два дня в тени без рубахи, пока ранки не затянулись. Кире я сказал, что сорвался с обрыва и исцарапал спину.
Через несколько дней после этого происшествия на 16-ю станцию пришли Торелли и Изя Лившиц.
Торелли пришел за Кирой. Жена Регинина уже поправилась и только капризничала и плакала от голода и оттого, что ей сбрили темные матовые косы. А Изя Лившиц пришел сообщить мне, что пора возвращаться в «Моряк».
Я вернулся в Одессу с тем же чувством тоски, с каким возвращался в гимназию после вольного и короткого лета. Я рвался обратно, на 16-ю станцию, на свое побережье, и если бы не было стыдно, то я наверняка бы втихомолку всплакнул.
Так окончилась эта маленькая история. Но, пожалуй, полный конец наступил позже, в 1947 году, на книжном базаре в Доме писателей в Москве.
Регинин подвел FO мне высокую женщину, очень сдержанную и спокойную, и сказал.
– Вот! Пожалуйста! Это та самая Кира, из-за которой вам влепили в зад добрый заряд соли.
Кира покраснела и протянула мне руку.
– Вы помните, как мы жили на Фонтанах? – спросил я.
– Да, – неуверенно ответила она. – То есть если говорить по правде, то помню едва-едва. А ваше лицо я совсем забыла.
Мне стало почему-то немного грустно, и я, чтобы не молчать, спросил:
– А что вы делаете теперь?
– Я окончила институт и состою в аспирантуре. Я замужем. Погодите, я познакомлю вас со своим мужем.
Она отошла от меня. Я подождал несколько минут, но она не возвращалась. Тогда я тихо ушел из Дома писателей и потом не мог самому себе объяснить, почему я исчез, стараясь быть незамеченным.
«ПРОЩАЙ, МОЯ ОДЕССА, СЛАВНЫЙ КАРАНТИН »
Я стремился обратно на Фонтаны потому, что наступала уже осень. Вторая осень в моей одесской жизни.
Я был тогда уверен (да, пожалуй, и сейчас готов согласиться с этим), что из всех осенних времен, пережитых мною, одесская осень была одной из самых лучезарных. И не только в степи и на дачах, на Фонтанах с их опустелыми садами, но и в самом городе.
Точное описание одесской осени я нашел в стихах (теперь я не помню, где читал их):
Осенний воздух тонок и опасен,
Иной напев, иной порядок дней.
И милый город осенью прекрасен
И шум его нежней…
По утрам запах вянущих левкоев стоял на улицах, еще погруженных в тень. Но ни в садах, ни в палисадниках я не видел левкоев. Очевидно, это пахли не левкои, а просто утренние тени, или только что политые мостовые, или, наконец, слабый ветер. Он задувал с открытого моря. Он прилетал со стороны Большефонтанского маяка, пробегал крадучись через степные бахчи, наполнялся сладковатым ароматом вянущей ботвы, потом с трудом просачивался через пышные заросли Французского бульвара и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбачьих лачуг сушились дынные корки и дозревали помидоры.
Все это сообщало ветру тот запах, о каком я здесь упоминаю, – освежающий и чистый. Воздух был действительно тонок и опасен. Но не потому, что от этого воздуха легко было простудиться, а потому, что, вдохнув его, уже нельзя было избавиться от желания, чтобы такая осень стояла, не иссякая, над Одессой с ее мягким уличным говором и смехом.
В южных городах люди не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее и лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявления человеческой доброты, шутливости я любопытства.
Я назвал одесскую осень лучезарной. Я слышал это слово еще в юности («лучезарные вечера» Тютчева), но долго не знал его точного смысла.
Только в пожилом возрасте я узнал, что это слово обозначает спокойный, бестрепетный, все озаряющий свет солнечных лучей и чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему.
Одесская осень была лучезарна в полном значении этого слова. Тихий розовеющий свет наполнял улицы. Этот розовеющий свет происходил не только от постоянной дымки в воздухе, но еще и оттого, что солнце шло все ниже над горизонтом, свет его постепенно терял силу и окрашивался уже с самого утра в красноватые оттенки заката.
Но вскоре ясная осень сменилась туманами. Свет иссякал. Это печальное время совпало с неожиданным закрытием «Моряка».
У Союза моряков якобы не хватило денег на издание газеты. Деньги, конечно, можно было добыть – газета пользовалась необыкновенной популярностью. Секрет заключался в том, что официальный ее редактор, сивоусый и вечно кашляющий от нерешительности отставной морской капитан Походкин, боялся coбcтвенной газеты, как чумы, боялся всех нас, ее сотрудников, всячески старался избавиться от газеты и искал поводов для того, чтобы ее прикрыть.
Походкин не мог придумать ничего лучшего, чем устроить по случаю закрытия «Моряка» поминки по газете у себя на даче в Аркадии.
Мы пришли на этот небольшой банкет раздраженные, взвинченные, с подсознательной целью устроить скандал. Для этого нам была нужна любая, хотя бы пустяковая придирка. И она, конечно, нашлась, и к тому же оказалась совсем не пустяковой.
Наше раздражение усилилось, как только мы вошли в дачу: во всех комнатах стоял слабый, но ядовитый керосиновый чад.
Оказалось, что капитан Походкин занимался разведением цыплят. Он с гордостью показал нам шеренгу инкубаторов, стоявших на теплой террасе. Керосиновые лампы под ними потрескивали и чадили.
Мы все, влюбленные в море, в портовую жизнь, в корабли, в колдовство мореплавания, встретили известие об инкубаторах и цыплятах как тяжкое оскорбление морской профессии, оскорбление нашей мечты.
Вместо первого тоста Багрицкий прокричал яростную речь против «липовых» моряков, против обывателей, против людей, ушедших в тухлый мир инкубаторов от морской вольности, от шума ветра в вантах, похожего на шум пространства в створках раковин, от великолепной по своей неожиданности жизни.
Тогда вскочил Женька Иванов, опрокинул стул и закричал, брызгая слюной от возмущения:
– Товарищи! Эта росомаха в морском кителе (он гневно ткнул пальцем в сторону капитана Походкина), этот тещин тюфяк закрыл нашу замечательную газету! Ради чего? Ради того, чтобы спокойно высиживать на продажу рахитичных цыплят. Я считаю это не только безобразием! Это позор, требующий возмездия! Поэтому я призываю всех: бейте инкубаторы! Вдребезги! В дым! В пороховую пыль! Я один отвечу за все!
Нельзя объяснить только нашим опьянением то обстоятельство, что мы за несколько минут переломали и разбили почти все инкубаторы. Из керосиновых ламп столбами валила жирная копоть. Капитан Походкин бил себя в грудь, рвал с мясом золотые пуговицы на кителе и покаянно кричал:
– Правильно! Заслужил! Отрекаюсь!
Ознакомительная версия.