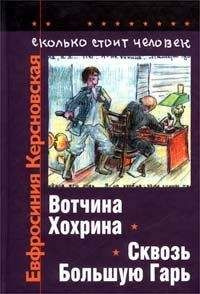А кто– то второй в писателе, дальний и тайный, кого он любит и боится одновременно, гордый, упрямый и смелый тусклый прообраз самого писателя, – страстно и гневно возражает:
Нет, это то! Ты – трус… Ты из породы тех современных, кто в безлюдных и темных переулках носит кукиш врагу в кармане! О каких героях грустишь ты? Где эти герои и все довольные ими? Укажи мне их, я на них плюну! Ты должен писать то, что начал. Я помогу. Мы создадим живых и недовольных!…
Двойник близко подходит к писателю и пальцами худых и твердых рук цепко забирает нервную ладонь писателя.
– Погаси свет, – приказывает он.
Писатель молча и покорно открывает ящик стола и достает свечку. Засветив ее и погасив электричество, сидят они вдвоем в полумраке, до капли внешне похожие друг на друга, молчаливые и внутренне будто смиренные. Двойник оглядывает стол писателя и кивает на фотографию «Толстой на пашне», вделанную в письменный прибор.
– Пашет великан?
– Пашет старик, – с кротким вздохом подтверждает писатель и повторяет с тоской и призывом: – Па-ашет!
И двойник угадывает мысль писателя:
– Всё великое и даже мало-мальски значительное в литературе было создано в протесте… в оппозиции к тому духу времени, в котором оно создавалось…
– Ну, положим, не всё, – пробует неуверенно возражать писатель, и двойник вскидывается:
Хочешь примеры из русской литературы? Изволь: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Некрасов, Щедрин, Шевченко, Толстой, Надсон, Есенин и половина Горького!
– Отчего же «половина»?
– Во вторую половину своей жизни, в полосу «приятия», Горький ничего не мог создать! – Двойник наклоняется к писателю: – Фаддея Булгарина, надеюсь, знаешь?
– К чему ты мне говоришь это? – тоскует писатель.
– Ну не для того, чтобы искусственно создать бугор «желания славы» в твоем черепе! Я хочу, чтобы понял правду земли: толпа и гений несовместимы, как добро и зло. Только люди творческой мысли и светлой и гордой души способны возвышаться над обществом своего времени и видеть и осуждать его пороки. Посредственность никогда не выходит из «круга приличий», и рык осатане-лой твари «нраву моему не препятствуй!» всегда приемлет за откровение и милость Божью! Писатель, павший до восхваления модной лжи и порока, обречен на презрение и проклятье его потом-ками… Какие это избитые истины! Но истину народ обретает не вдруг. За нее он всегда платился и платится лучшим цветом своим, самой пылкой и непорочной мечтою! Сто лет тому назад эти истины бытовали на русской земле в творениях литературы. Теперь духовно оскопленным в университетах только издали показывают эти истины, осторожно вынимая их из затхлого сундука истории нашей. Показывают опасливо и ревниво под надежной и незримой охраной автоматчиков и на фоне карты Сибири! Истины эти будто изжили себя у нас на Руси, но дороги как приятные воспоминания о больших и смелых людях. И для обезвреживания эти истины густо пересыпаются вонючей пылью слов политического нафталина! О, какая гнусная ложь! Произнесшем эту истину сейчас как истину… ты знаешь, как поступают с такими? Сотни тысяч отрубленных голов! Миллионы!! И вот, растленный и обезглавленный, притих мой народ, а булгарины и эти современ-ные опричники литературы, мерзопакостники и стяжатели «премий» – этих ивано-грозненских вотчин! – все стряпают и стряпают на общей кухне партийной секты ядовитую словесную похлебку для народа. Одна приправа у этих блюд, один цвет – цвет дряни из гангренозной раны; один запах – запах гниющих собачьих голов за спинами опричников; один привкус – привкус белены, растущей на навозе! О, как же мучительно хочется связать воедино всех этих «кавалеров золотых звезд», «троих в серых шинелях», «иванов ивановичей» и прочее и прочее, и с «первой радостью» – радостью хозяйки, очистившей свою хату от мусора, – по «поднятой целине» русской земли оттащить их «далеко от Москвы» и утопить в самом глубоком и темном месте океана!…
Но как постыдны и отвратительны те из булгариных, те из поваров, кто неумело еще стряпает свою словесную похлебку, кто по неопытности заправляет ее недостаточной дозой отравы. На пробе в дегустаторских камерах цензуры эта похлебка бракуется, и ее с оскорбительным окриком парторги возвращают незадачливому повару, выплескивая прямо в покрасневшую от стыда морду его дескать, жри сам! Такие – до физической ощутимости напоминаю! мне отвергнутых пьяным хамом проституток, хоть и подряжались-то за рупь! О, гнусные гады!!
И вот, милостивый государь, – какое чудесное русское обращение, рожденное добром и благородством! – и вот, я спрашиваю: чем же ты лучше последней категории поваров-опрични-ков, булгариных-стряпух? Не удалась ведь похлебка, а? Хлестнули прямо в морду тебе ее, в переносицу!! У-у, пас-скуда несчастная, слепой выблядок трахомного времени! Как же ты не видишь происходящего? И как ты находишь дозволенным для себя глядеть на Толстого и скулить в тоске по сторублевке – «па-а-шет»! Ты смеешь называть его «стариком» и идти с ним запанибрата? Это с полубогом-то, кто перед сонмом жандармов гремел миру «Не могу молчать»?
И двойник, сжав челюсти до скрипа зубов, раз и два больно бьет писателя по щекам, а откинувшись, гневно и с омерзением плюет ему в глаза.
Писатель хватается руками за лицо и чувствует, как краска нестерпимого стыда заливает его бледные щеки и лоб.
– Не надо так… Не надо… О Боже мой! – шепчет он и вдруг тяжело роняет голову на стол, и безудержное рыдание начинает бить его тело.
Плачет он долго и тяжело, а двойник сидит рядом и ждет. Наконец он мягко кладет руку на голову писателя и начинает гладить ее тихо и нежно.
– Перестань, – участливо произносит он, – перестань, друг. Где твоя повесть – этот унизительный позор твоей жизни? Подпалим свечкой – и все! Пусть сгинет мерзкий плод твоего минутного падения, отвратный ублюдок лживой мысли. Книги, большие волнующие полотна – пишутся только кровью сердца, а от созданного тобой, разве не чувствуешь, как несет ядовитым духом заразы?
– Да, это так! – твердо соглашается писатель.
– Это так! – вторит ему двойник и, сощурив глаза, пронизывая ими писателя, раздельно и властно приказывает: – Тогда пиши клятву-эпиграф к своей большой и честной книге. Пиши:
Обруганное страшной матерщиной,
Подло застигнутое нагим и девственным, –
Мерзко ученое покупать и продаваться.
Сердце мое, человечье, измученное!
Поклянемся на этом вместе мы:
Да будешь ты мною казни предано
За попытку солгать или струсить!
Писатель порывисто закуривает, хватает карандаш и записывает эпиграф. Потом минуту сидит притихший, и злорадная усмешка блуждает на его чувственных, но бескровных губах. Вдруг он размашисто выводит под эпиграфом:
«БЕССМЕРТИЕ»
Роман
Книга первая
Двойник же неслышно встает, запахивает полы черного пальто, глубоко на глаза надвигает шляпу и, до жути одинокий в этой ночи, медленно уходит в предрассветный мир.
1949
Немец в валенках
Тогда в Прибалтике уже наступала весна. Уже на нашем лагерном тополе набухали почки, а в запретной черте – близ проволочных изгородей – проклевывалась трава и засвечивались одуваны. Уже было тепло, а этот немец-охранник явился в наших русских валенках с обрезанными голенищами и в меховой куртке под мундиром. Он явился утром и дважды прошелся по бараку от дверей до глухой стены: сперва оглядывал левую сторону нар, потом правую, – кого-то выиски-вал среди нас. Он был коренастый, широколицый и рыжий, как подсолнух, и ступал мягко и врозваль, как деревенский кот.
Мы – сорок шесть пленных штрафников – сидели на нижних ярусах нар и глядели на ноги немца, – эти сибирские валенки на нем с обрезанными голенищами ничего не сулили нам хорошего. Ясно, что немец воевал зимой под Москвой. И мало ли что теперь по теплыни взбрело ему в голову и кого и для чего он тут ищет! Он сел на свободные нары, закинул ногу на ногу и поморщился. Я по себе знал, что отмороженные пальцы всегда болят по теплыни. Особенно мизинцы болят… Вот и у немца так. И мало ли что он теперь задумал! Я сидел в глубине нар, а спиной в меня упирался воентехник Иван Воронов, – он был доходяга и коротал свой последний градус жизни. У нас там с Вороновым никогда не рассеивались сумерки, – окно лепилось над третьим ярусом, и все же немец приметил нас, точнее, меня одного. Он протянул по направлению ко мне руку и несколько раз согнул и расправил указательный палец.
Я уложил Ивана и полез с нар. Там и пространства-то было на четыре вольных шага, но я преодолел его не скоро: немец сидел откинувшись, держа ноги на весу и глядя на меня с какой-то болезненно брезгливой гримасой, а мне надо было балансировать, как бы табанить то правой, то левой рукой, чтоб не сбиться с курса, чтоб подойти к нему по прямой. Я не рассчитал и остановил-ся слишком близко от нар, задев поднятые ноги немца своими острыми коленками. Он что-то буркнул – выругался, наверно, – и отстранился, воззрившись на мои босые ноги с отмороженны-ми пальцами. Я стоял, балансировал и ждал, и в бараке было тихо и холодно. Он что-то спросил у меня коротко и сердито, глядя на ноги, и я отрицательно качнул головой, – мы знали, что охран-ники и конвоиры особенно усердно били доходят, больных и тех, кто хныкал, закрывался от ударов и стонал.