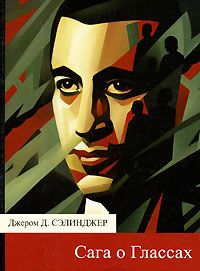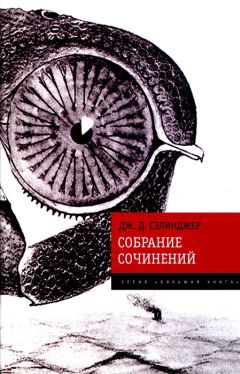Фрэнни воспользовалась наступившей паузой и слегка выпрямила спину, как будто по неизвестной причине хорошая, более правильная осанка могла в ближайший момент пригодиться.
– Это меня малость пугает, но не ужасает. Давай говорить начистоту. Меня это не ужасает. Потому что ты об одном забываешь, дружище. Когда ты впервые почувствовала желание, точнее, призвание творить молитву, ты не бросилась шарить по всему миру в поисках учителя. Ты явилась домой. И не только явилась домой, но и устроила этот нервный срыв, черт побери. Так что если ты посмотришь на это определенным образом, то поймешь, что ты вправе претендовать только на духовные советы самого низшего порядка, которые мы в силах тебе дать, и больше ни на что. Но ты, по крайней мере, знаешь, что в этом сумасшедшем доме ни у кого нет корыстных мотивов. Какие бы мы ни были, нам можно доверять, брат.
Фрэнни неожиданно сделала попытку закурить, хотя у нее была свободна только одна рука. Она сумела открыть спичечный коробок, но так неловко чиркнула спичкой, что коробок полетел на пол. Она быстро нагнулась и подняла коробок, не трогая рассыпавшиеся спички.
– Скажу тебе одно, Фрэнни. Одну вещь, которую я знаю. И не расстраивайся. Ничего плохого я не скажу. Но если ты стремишься к религиозной жизни, то да будет тебе известно: ты же в упор не видишь ни одного из тех религиозных обрядов, черт побери, которые совершаются прямо у тебя под носом. У тебя не хватает соображения даже на то, чтобы выпить, когда тебе подносят чашу освященного куриного бульона – а ведь только таким бульоном Бесси угощает всех в этом сумасшедшем доме. Так что ответь, ответь, брат, честно. Даже если ты пойдешь и обшаришь весь мир в поисках учителя – какого-нибудь там гуру или святого, – чтобы он научил тебя творить Иисусову молитву по всем правилам, чего ты этим добьешься? Как же ты, черт побери, узнаешь подлинного святого, если ты неспособна даже опознать чашку освященного куриного бульона, когда тебе суют ее под самый нос? Можешь ты мне ответить?
Фрэнни сидела, почти неестественно выпрямившись.
– Я просто тебя спрашиваю. Я не хочу тебя расстраивать. Я тебя расстраиваю?
Фрэнни ответила, но ее ответ явно не дошел до собеседника.
– Что? Я тебя не слышу.
– Я сказала – нет. Откуда ты звонишь? Где ты?
– А, какая, к черту, разница! Ну, хотя бы в Пьере, Южная Дакота. Боже ты мой. Послушай меня, Фрэнни, прости и не сердись. Только послушай. Еще одна-две мелочи, и я оставлю тебя в покое, честное слово. А знаешь ли ты, что мы с Бадди приезжали посмотреть тебя на сцене этим летом? Известно ли тебе, что мы видели одно из представлений «Повесы с Запада»? Вечер был адски жаркий, должен тебе сказать. А ты знала, что мы приезжали?
Видимо, он ждал ответа. Фрэнни встала, но тут же снова села. Она отодвинула пепельницу чуть подальше, словно та очень ей мешала.
– Нет, не знала, – сказала она. – Никто ни одним словом… Нет, не знала.
– Так вот, мы там были, мы там были. И я вот что скажу тебе, брат. Ты играла хорошо. Когда я говорю «хорошо», это значит хорошо. Весь этот чертов хаос держался на тебе. Даже вся эта валявшаяся до обалдения на солнце курортная публика это понимала. А теперь мне говорят, что ты навсегда порвала с театром – да, слухи до меня доходят, слухи доходят. И я помню, какой концерт ты тут устроила, когда кончился сезон. Ох, и зол же я на тебя, Фрэнни! Извини, но я на тебя так зол! Ты сделала великое, потрясающее открытие, черт побери, что среди актерской братии полно торгашей и мясников. Я помню, у тебя был такой вид, словно тебя огорошило то, что не все билетерши гениальны. Что с тобой, брат? Где твой ум? Раз уж ты получила уродское воспитание, то хоть пользуйся им, пользуйся. Можешь долбить Иисусову молитву хоть до Судного дня, но если ты не понимаешь, что единственный смысл религиозной жизни в отречении, не знаю, как ты продвинешься хоть на дюйм. Отречение, брат, и только отречение. Отрешенность от желаний. «Устранение всех вожделений». А ведь именно умение желать, если хочешь знать, черт побери, всю правду, – это самое главное в настоящем актере. Зачем ты заставляешь меня говорить тебе то, что ты сама знаешь? В том или ином воплощении, где-то на протяжении этой цепочки, ты желала, черт возьми, быть актрисой, да еще и хорошей актрисой. И теперь тебе не увернуться. Ты не можешь взять да и бросить то, чего так горячо желала. Причина и следствие, брат, причина и следствие. И тебе остается только одно – единственный религиозный путь – это играть. Играй ради Господа Бога, если хочешь – будь актрисой Господа Бога, если хочешь. Что может быть прекрасней? Если тебе хочется, ты можешь хотя бы попробовать – попытка не пытка. – Он на минуту примолк. – И лучше бы тебе, не мешкая, взяться за дело. Этот чертов песок так и сыплется вниз, стоит только отвернуться. Я знаю, о чем говорю. Если ты успеешь хотя бы чихнуть в этом проклятом материальном мире, то считай, что тебе крупно повезло. – Он снова помолчал. – Меня это всю жизнь тревожило. А теперь как-то перестало тревожить. По крайней мере, я до сих пор люблю череп Йорика. Я хочу оставить после себя достопочтенный череп, брат. Я ж е л а ю, чтобы после моей смерти остался такой же достойный уважения череп, черт побери, как череп Йорика. И т ы желаешь того же, Фрэнни Гласс. Да, и ты, и ты тоже… О господи, что толку в разговорах? Ты получила точно такое же треклятое уродское воспитание, как и я, и если ты до сих пор не знаешь, какой именно череп ты хочешь оставить, когда помрешь, и что надо делать, чтобы добиться этого, то есть если ты до сих пор не поняла хотя бы того, что актриса должна играть, тогда какой смысл в разговорах?
Фрэнни сидела, прижав ладонь свободной руки к щеке, как человек, у которого невыносимо разболелся зуб.
– И еще одно. Последнее. Клянусь. Дело в том, что ты приехала домой и принялась возмущаться и издеваться над тупостью зрителей. «Животный смех», черт побери, раздающийся в пятом ряду. Все верно, верно – видит бог, от этого тошно становится. Я не отрицаю этого. Но ведь тебе до этого нет дела. Это не твое дело, Фрэнни. Единственная цель артиста – достижение совершенства в чем-то и так, как он это понимает, а не по чьей-то указке. Ты не имеешь права обращать внимание на подобные вещи, клянусь тебе. Во всяком случае, всерьез, понимаешь, что я хочу сказать?
Наступило молчание. Оба выдержали паузу без малейшего нетерпения или чувства неловкости. Можно было подумать, что у Фрэнни, которая все еще держала руку у щеки, по-прежнему сильно болит зуб, но выражение ее лица никак нельзя было назвать страдальческим.
Снова на том конце провода послышался голос.
– Помню, как я примерно в пятый раз шел выступать в «Умном ребенке». Я несколько раз дублировал Уолта, когда он там выступал – помнишь, когда он был в этом составе? В общем, как-то вечером, накануне передачи, я стал капризничать. Симор напомнил мне, чтобы я почистил ботинки, когда я уже выходил из дому с Уэйкером. Я взбеленился. Зрители в студии были идиоты, ведущий был идиот, заказчики были идиоты, и я сказал Симору, что черта с два я буду ради них наводить блеск на свои ботинки. Я сказал, что оттуда, где они сидят, моих ботинок все равно не видать. А он сказал, что их все равно надо почистить. Он сказал, чтобы я их почистил ради Толстой Тети. Я так и не понял, о чем он говорит, но у него было очень «симоровское» выражение на лице, так что я пошел и почистил ботинки. Он так и не сказал мне, кто такая эта Толстая Тетя, но с тех пор я чистил ботинки ради Толстой Тети каждый раз, перед каждой передачей, все годы, пока мы с тобой были дикторами, – помнишь? Думаю, что я поленился раза два, не больше. Потому что в моем воображении возник отчетливый, ужасно отчетливый образ Толстой Тети. Она у меня сидела целый день на крыльце, отмахиваясь от мух, и радио у нее орало с утра до ночи. Мне представлялось, что стоит адская жара, и, может, у нее рак, и ну, не знаю, что еще. Во всяком случае, мне было совершенно ясно, почему Симор хотел, чтобы я чистил свои ботинки перед выходом в эфир. В этом был смысл.
Фрэнни стояла возле кровати. Она перестала держаться за щеку и обеими руками держала трубку.
– Он и мне тоже это говорил, – сказала она в трубку. – Он мне один раз сказал, чтобы я постаралась быть позабавней ради Толстой Тети. – Она на минуту освободила одну руку и очень быстро коснулась ею своей макушки, но тут же снова взялась за трубку. – Я никогда не представляла ее на крыльце, но у нее были очень – понимаешь, – очень толстые ноги, и все в узловатых венах. У меня она сидела в жутком плетеном кресле. Но рак у нее тоже был, и радио орало целый день! И у моей все это было, точь-в-точь!
– Да. Да. Да. Ладно. А теперь я хочу тебе что-то сказать, дружище. Ты слушаешь?