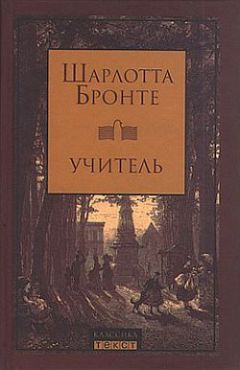Подобные мысли посещают порою некоторых женщин. Фрэнсис, будь она и в самом деле так одинока, как ей это казалось, едва ли особенно отличалась бы от тысяч представительниц своего пола. Посмотрите на целую породу строгих и правильных старых дев — породу, многими презираемую; с самых молодых лет они пичкают себя правилами воздержанности и безропотной покорности судьбе. Многие из них буквально костенеют на столь строгой диете; постоянный контроль и подавление собственных мыслей и чувств со временем сводит на нет всю нежность и мягкость, заложенную в них природой, и умирают эти особы истинными образчиками аскетизма, словно сооруженными из костей, обтянутых пергаментом. Анатомы вам сообщат, что в иссохшем теле старой девы обнаружено было сердце — точно такое же, как у любой жизнерадостной супруги или счастливой матери. Возможно ли сие? Сказать по правде, не знаю — но весьма склонен в этом усомниться.
Итак, я вошел, пожелал Фрэнсис «доброго вечера» и сел. Возможно, с того стула, который я себе выбрал, она только недавно поднялась — стоял он возле маленького столика, где лежали бумаги и раскрытая книга. Трудно сказать, узнала ли меня Фрэнсис в первый момент, во всяком случае, теперь-то уж узнала точно — поздоровалась она со мною мягко и почтительно.
Она не выказала ни малейшего удивления, я же был, как всегда, хладнокровен. Мы встретились так, как всегда встречались прежде — как учитель и ученица, не более того. Я принялся перебирать бумаги; Фрэнсис — внимательная и услужливая хозяйка — принесла из соседней комнатки свечи, зажгла и установила поближе ко мне; затем она задернула штору на окне и, добавив немного дров в камин, и без того яркий, подставила к столику второй стул и села справа от меня.
Первый листок в стопке содержал перевод некоего очень мрачного французского автора на английский, вторым был листок со стихами, за который я тут же и взялся. Фрэнсис чуть приподнялась, порываясь забрать у меня захваченную добычу и говоря, что ничего интересного там нет — так, мол, черновик стишков. Я оказал решительное сопротивление, перед которым, я был уверен, она отступит; однако вопреки ожиданиям пальцы ее цепко ухватились за листок, и я едва его не лишился. Но стоило мне только коснуться ее пальцев, как Фрэнсис отпустила листок и отдернула руку, моя же рука охотно последовала бы за ее, однако я сдержал этот порыв.
На первой страничке моего трофея были строки, которые мне довелось уже услышать из-за двери; продолжение являло собою не то, что почерпнул автор из собственной жизни, но что родилось в его воображении, отчасти навеянное пережитым. Стержнем этого стихотворения было глубокое нежное чувство, таящееся в самых недрах души как ученицы, так и учителя, тщательно скрываемое наружной холодной сдержанностью и строгостью манер и лишь изредка проявляющееся в отдельных знаках внимания, — чувство, что со всею силою заявило о себе только в момент расставания героев, когда ученица вот-вот должна была уплыть на корабле в другую страну и навсегда покинуть своего учителя.
Прочитав стихотворение, я принялся делать на полях незначительные карандашные пометки, думая тем временем совершенно о другом — о том, что героиня этой истории сидит сейчас рядом, не дитя-ученица, но девятнадцатилетняя девушка, что она может стать моей, как этого жаждет мое сердце, что теперь я избавился от проклятой Нищеты и что ни Зависть, ни Ревность не вторгаются в наше тихое свидание. Я чувствовал, что ледяной панцирь учителя уже готов растаять, хочу я этого или нет; нет больше надобности взирать сурово на ученицу и непрестанно хмурить брови, вызывая строгую морщинку над переносицей, — теперь можно позволить выплеснуться своим чувствам и искать, требовать, вымаливать ответных.
Размышляя таким образом, я пришел к выводу, что даже трава на Ермоне{15} никогда не пила на заре более свежей и благодатной росы, чем то блаженство, каким упивался я в этот час.
Фрэнсис поднялась с некоторой обеспокоенностью и, пройдя передо мною, помешала в камине, который в этом вовсе не нуждался, затем стала переставлять разные маленькие безделушки на каминной полке — легкая, стройная и грациозная, в чуть колышащемся и шелестящем всего в ярде от меня платье.
Случается, в нас возникают такие порывы, которые мы не в силах укротить, которые настигают, точно тигр в прыжке, и подчиняют нас себе. Не так уж часто подобные порывы бывают скверными, и Рассудок довольно скоро убеждается в благоразумное™ поступка, на который толкнул нас Порыв, и тем самым оправдывает собственную пассивность. Трудно передать, как это произошло, — я вовсе не намерен был этого делать, — но в следующий миг Фрэнсис уже сидела у меня на коленях: внезапно и решительно я усадил ее и теперь цепко удерживал.
— Monsieur! — воскликнула Фрэнсис и затихла, более ни слова не сорвалось с ее губ.
В первое мгновение она, казалось, была крайне поражена случившимся, однако очень быстро изумление это рассеялось; ни страха, ни негодования в ней не было: в сущности, она всего лишь сидела чуть ближе обычного к человеку, которого она бесконечно уважала и которому привыкла доверять; девственное смущение могло бы побудить ее на борьбу, но чувство достоинства предотвратило бесполезное сопротивление.
— Фрэнсис, насколько хорошо вы ко мне относитесь? — вопросил я.
Ответа не последовало: она оказалась в слишком необычной, удивительной для себя ситуации, чтобы что-либо мне сказать. Понимая это, я не торопил ее и выдерживал молчание, которое лишь подогревало во мне нетерпение. Потом я повторил вопрос, причем отнюдь не бесстрастным тоном; она взглянула на меня — не сомневаюсь, что лицо мое не являло собою образец хладнокровия, а глаза — зерцало абсолютного спокойствия.
— Ответьте мне, — потребовал я.
И очень тихо, быстро и без тени лукавства, она проговорила:
— Monsieur, vous me faîtes mal; de grâce lâchez un peu ma main droite.[143]
И действительно, я вдруг обнаружил, что держу упомянутую «main droite» в безжалостных тисках. Я немедленно выполнил требование Фрэнсис и в третий раз спросил ее уже мягче:
— Фрэнсис, насколько хорошо вы ко мне относитесь?
— Mon maître, j'en ai beaucoup.[144]
— Фрэнсис, настолько ли, чтобы доверить себя мне в жены? Чтобы принять меня как своего супруга?
Сердце во мне бешено колотилось. Я видел, как пурпурный свет любви разливается по ее щекам, лбу и шее, мне хотелось заглянуть в глаза Фрэнсис, но они скрылись под опущенными ресницами.
— Monsieur, — прозвучал наконец нежный ее голос. — Monsieur désire savoir si je consens… enfin, si je veux me marier avec lui?[145]
— Совершенно верно.
— Monsieur sera-t-il aussi bon mari qu'il a été bon maître?[146]
— Я постараюсь, Фрэнсис.
Она помолчала; потом с несколько иной интонацией, возбудившей во мне радостный трепет, и с улыбкой à la fois fin et timide,[147] что в совершенстве дополняла ее голос, Фрэнсис произнесла:
— C'est à dire, Monsieur sera toujours un peu entêté, exigeant, volontaire…[148]
— Я разве был таким, Фрэнсис?
— Mais oui, vous le savez bien.[149]
— А было что-нибудь кроме этого?
— Mais oui, vous avez été Mon Meilleur Ami.[150]
— А вы, Фрэнсис, по отношению ко мне?
— Votre dévouée élève, qui vous aime de tout son cœur.[151]
— И ученица моя согласна пройти со мною рядом всю жизнь? Отвечайте по-английски, Фрэнсис.
Несколько мгновений она думала, как ответить, и наконец медленно проговорила:
— При вас я всегда чувствовала себя счастливой. Мне приятно слышать ваш голос, видеть вас, находиться рядом; я уверена, вы очень хороший и самый лучший; я знаю, вы суровы к тем, кто ленив и легкомыслен, но неизменно добры к ученикам внимательным и трудолюбивым, даже если они и не блещут умом. Учитель, я буду очень рада всегда быть с вами. — И она сделала легкое движение, будто хотела прильнуть ко мне, но, сдержавшись, лишь добавила с большей пылкостью: — Учитель, я согласна пройти рядом с вами всю жизнь.
— Замечательно, Фрэнсис.
Я привлек ее к груди и запечатлел первый поцелуй на ее устах, скрепив таким образом наше соглашение. Потом и она и я сидели безмолвно — и безмолвие наше не было кратким. Не знаю, о чем думала в это время Фрэнсис, я и не пытался это угадать; я не изучал выражение ее лица и ничем другим не нарушал ее покоя. Я ощущал в себе счастье и умиротворенность и надеялся, что и она чувствует то же; я все так же придерживал ее рукой, но объятие это было мягким и нежным, поскольку никакого сопротивления уже ему не препятствовало. Я неотрывно глядел на рыжевато-красное пламя, и сердце мое, переполненное любовью, обнаруживало в себе все новые, неизмеримые глубины.
— Monsieur, — произнесла наконец еле слышно молчаливая моя подруга, которая, словно не веря своему счастью, замерла, как перепуганная мышка. Даже обратившись ко мне, она лишь чуточку приподняла голову.