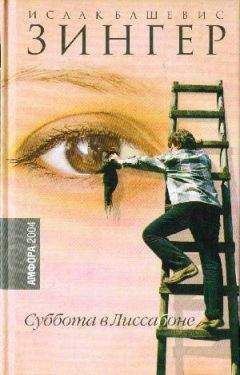Жених был, конечно, сирота, и как только помолвка состоялась, переехал жить к будущему тестю. Высокий, щеголеватый тип, длинноногий, с вьющимися волосами (это так ценилось на Крохмальной) — как раз подходящая пара для Миреле. Не слишком-то долго он привыкал к тому, как подают и что едят в этом богатом доме. Если ему нужны были деньги, он никого не затруднял просьбой. Никого не спрашивал: сам шарил в ящиках стола, в комоде, доставал из-под матраса. Поговаривали, что Коплу придется отдать этому парию половину своего состояния. У жениха было все: хлеб, плюшки, булочки, субботняя хала, мясо, деньги — и Миреле в придачу. Куда уж лучше!
Вдруг, в самый разгар свадебных хлопот, Копл заболел. Его спешно отвезли в больницу. Прооперировали. Но было уже поздно. На смертном одре он выразил последнее свое желание: чтоб свадьба Миреле состоялась сразу же после положенных дней траура.
На Крохмальной говорили, что Копл слишком часто повторял любимую свою клятву.
Но вернемся к нашей поездке. В 1917 году в Варшаве свирепствовал сыпной тиф. Брюшной тиф не отставал от него. И чему тут удивляться? Как еще люди вообще оставались живы, питаясь картофельными очистками и жареными каштанами, — уму непостижимо. Немцы заставляли каждого жителя Варшавы пройти дезинфекцию в городской бане. Кордон солдат окружал двор, и каждого жильца насильно вели в баню. Мужчинам брили бороды, девочек стригли наголо. Люди боялись выходить на улицу. Санитарные комиссии проверяли дом за домом. Голод, болезни, страх перед немцами делали жизнь непереносимой.
На Щиглой, в узком переулке, ведущем от улицы Новый Свят к Висле, размещалось австрийское консульство. Это было время, когда люди выстраивались в очередь за хлебом, за картошкой, за керосином, за чем угодно. Но нигде не было столь длинной и столь плотной очереди, как на Щиглой. Тысячи варшавян и приезших ожидали возможности уехать в ту часть Польши, которая теперь была оккупирована австрийцами. Там, в маленьких местечках, еще была еда. Толковали, что там можно набить желудок, можно забыть о войне. Но мы слышали и другое: с австрийской армией туда пришла холера, и эпидемия косит людей тысячами.
С самого начала военных действий мать не получала писем из Билгорая. Однако знала, что отца ее уже нет в живых. Как она могла узнать это? Ей приснился сон. Проснулась однажды утром и сказала: «Отец умер».
— Что ты такое говоришь? Почему? Как ты узнала? — допытывались мы.
Мать рассказала, что во сне ей явился наш дедушка, его лицо проплыло перед ней, оно излучало свет, и в сиянии лучей света лик его удалился. Мы старались, как только могли, свести на нет значение этого сна. Но мать осталась при своем убеждении: отца ее, билгорайского рабби, нет уже на свете.
Отцу не хотелось оставлять свою деятельность раввина на Крохмальной, к тому же он теперь стоял во главе иешивы, а брат не хотел бросать работу в газете. А еще брат увлекся девушкой, она должна была стать его женой. Решено было поэтому, что пока только мать и двое младших — мой брат Мойша и я — поедем в Билгорай.
Но для этого нужна виза. Чтобы ее получить, придется стоять в очереди. Как долго? Недели. А может, и месяцы. Наверное, это покажется невероятным, но люди стояли в очереди в ожидании виз круглые сутки: и день, и ночь. Большие семьи устраивались таким образом, что члены семьи дежурили здесь поочередно. Вообще-то любая очередь имеет свойство продвигаться. Но только не здесь. Объясняли это так: во-первых, австрийский консул решительно против выдачи виз, а во-вторых, немецкие солдаты, которые следили за порядком, продавали места в очереди. Кто заплатит, попадет к консулу. Остальные могут ждать до скончания века. Охрана постоянно менялась, и потому одной взятки могло оказаться мало. Солдаты не скупились на брань, орудовали прикладом винтовки. Только и слышалось: «Verfluchte Juden!»[73]
Мы тоже заняли очередь. Мать, старший брат и я дежурили, сменяя друг друга, но к дверям консульства не приближались ни на шаг. Женщины говорили между собой, что визы получают только проститутки, и кляли этих шлюх самыми страшными проклятиями. В очереди я штудировал старый немецкий учебник. Наверно, это была хрестоматия: рассказы и стихи. Две строчки оттуда навсегда врезались в память:
Es regnet —
Gott segnet.[74]
Немецкий учить было легко — очень похож на идиш, и я все понимал, только что буквы другие.
Мы уже совершенно отчаялись, но в один прекрасный день брат вернулся домой с материнским паспортом, где стояла виза — для матери, меня и младшего брата. Брату удалось наскрести тридцать марок, и он сунул взятку солдату из охраны.
Никогда не забуду тот день. Наверно, это было в конце июля или в самом начале августа. Семейство наше, изнемогшее от голода, отчаяния и безнадежности, воспряло духом. Даже комнаты выглядели теперь иначе. Лицо матери уже не было столь мрачным. Солнце светило ярче, дышалось легче, грядущий день сулил одни лишь радости. Печать на куске бумаги открыла нам двери в мир — двери, которые только что были заперты на крепкий засов. Открылась дорога к зеленым лесам, к еде, к родне матери, с которой мы никогда не виделись. Для нас, детей, Билгорай символизировал нечто удивительное, чудесное, сверхъестественное, сравнимое лишь с приходом Мессии. Там жили наши дядья, тетки, наши двоюродные братья и сестры. Билгорай — особенная страна, земля Израиля, откуда до Иерусалима рукой подать.
Я танцевал, прыгал, резвился, буквально стоял на голове. Я уже, можно сказать, ехал в поезде. Мать улыбнулась, хотя для нее эта поездка не была столь беззаботным приключением. Потом вздохнула. Во-первых, отец останется один, и кто будет за ним ухаживать? Некому даже чаю подать. Правда, он будет жить не в Варшаве, а в Радзимине с семьей радзиминского раввина, а все же один, без своих. А еще Иошуа. Он ведь остается в Варшаве. Как она может уехать, если отцу и Иошуа грозит опасность! Мало ли что… Мать решительно заявила: она поступит нехорошо, если уедет; это большой грех, если семья разделена в такое опасное время — ведь не знаешь, чего ждать завтра. Но отец и брат возражали: не ехать — значит подвергать опасности жизнь младших; самая большая ответственность, которая лежит на матери, — это дети.
Я был слишком мал и беспечен, чтобы понять материнские угрызения совести, ее сомнения, ее чувство вины перед отцом и братом. Я только видел, что она хочет похоронить мои мечты и надежды, лишить меня величайшего удовольствия. Я был сердит на нее, просто в бешенство пришел. Желание ехать было столь велико, что ни о чем другом я и думать не мог — лишь бы сидеть в поезде и смотреть в окно. Много лет прошло, но я не изменился. Это желание так и живет во мне с тех пор.
Все шло своим чередом. Я уже попрощался с друзьями и был готов отправиться в путь хоть сию же минуту. Но вот беда! Ботинки мои совсем прохудились, и меня послали к сапожнику, что жил прямо в нашем дворе: может, он поставит новые подметки?
Стоял ясный летний день, но в подвале было темно. Я прошел коридором — сырым, затхлым, на стенах плесень. Вошел в маленькую комнатенку, заваленную обувью и всяким хламом. Неровный косой потолок, маленькое оконце, грязные немытые стекла, а кое-где вместо стекла фанера. А я-то думал, что у нас такая бедность — дальше некуда. Но у нас, по крайней мере, просторное помещение с обстановкой, книги. Здесь же всего две кровати, на них грязные простыни. На одной из кроватей, уделавшись по уши, лежал новорожденный младенец — сморщенный, лысый, беззубый, ни дать ни взять кикимора болотная, только в миниатюре. Женщина возилась у плиты, та все дымила и дымила, а за сапожным верстаком сидел мужчина — молодой рыжебородый еврей, с высоким лбом и впалыми щеками, желтый, как обрезки кожи на полу.
Я ждал, пока он заменит подметки. Нечем было дышать от пыли и тяжелого запаха кожи. Я кашлял и кашлял. Припомнилось, что говорил брат: одни старятся и теряют здоровье, надрываясь на непосильной работе, а другие бездельничают. Меня прямо мутило от царящей в мире несправедливости. Молодые люди, горой бросают бомбы, умирают или остаются искалеченными после взрыва. Другие работают с утра до ночи и все равно не в состоянии заработать на кусок хлеба, на чистую рубашку или колыбельку для малыша. Этот сапожник, к примеру. Рано или поздно он заболеет чахоткой или сляжет в тифу. Да и как может вырасти здоровый ребенок в этом кухонном чаду, в грязи, среди смрада и зловония?
По мнению брата, не должно быть никаких царей. Не только Николая следует прогнать, но и Вильгельма, и английского короля. Надо, чтоб везде была республика. Отменить войны и ввести народное правление. Почему до сих пор это не сделано? Почему кругом цари, короли, императоры?
Наконец я дождался своих ботинок с новыми подметками и вышел из подвала на свет Божий. Меня охватило неизбывное чувство вины. Почему я собираюсь в такое прекрасное путешествие, а сапожник заперт у себя в подвале, будто в тюрьме? Мне казалось, будто все язвы общественной жизни олицетворял этот молодой еврей-сапожник. Я был всего лишь мальчик, но уже сочувствовал русским революционерам. Но и царя жалко: зачем заставлять его колоть дрова?