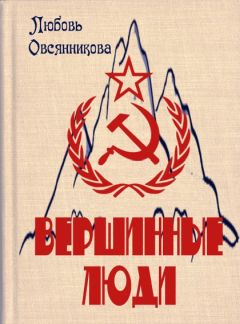Мне трудно писать о Людмиле, которой так не повезло с семьей. Или правильнее сказать — тем более трудно, что этот дивный дар не стал определяющим в ее судьбе. И не она тому виной. Эта легкая девочка была всего лишь певуньей, воспринимающей свой голос, как и цвет глаз, как все остальное в себе — естественным порядком. Вина за погубленный талант, за то, что многие люди лишены были возможности слышать столь чарующий голос, лежит на ее матери, расчетливой и бездушной женщине. Просто удивительно, как она могла сознательно и жестоко пресекать путь в лучшее будущее своему ребенку. Сделано это, конечно, было ради младшей дочери, с отцом которой она жила и ради которой устранила с дороги старших детей — я с нею объяснялась на этот счет, поэтому знаю, что говорю. А говорю я следующее: отнюдь не стоит обольщаться, что она не понимала того, что делает, или что она позволила дочери на свое усмотрение устраивать женское счастье. Нет, она и понимала все, и ошибкой дочери воспользовалась в своих эгоистических целях вполне сознательно.
С дистанции времени это видно всем, а тогда это видела только я одна, потому что пристальнее и не равнодушнее других смотрела на свою подругу. Поэтому без поддержки других людей и посмела сразиться с темной властью Марии Сергеевны — за Людину свободу, за возможность вырваться из домашнего плена и попытаться развить в себе то, что так щедро отпустила ей природа. Но кем я тогда была и что могла? Такая же девочка, как и Люда, только немного умнее. Я даже не посмела кинуть в лицо ее матери все, что думала о ней. А теперь жалею об этом. Возможно, если бы посмела, то в ней проснулись бы совесть и жалость, и долг. Хотя… вряд ли — дальтоник никогда не увидит радугу во всей ее красе.
А между тем тогда талант каждого человека ценился и замечался, и получал возможность реализоваться, если, конечно, ребенка не сбивала с пути собственная мать. Об этом часто говорил М. Магомаев, повторяя, что в советское время, если видели в человеке талант, то уж не спускали с него глаз и все время помогали его развивать и шлифовать. Да если просмотреть биографии великих советских исполнителей, то можно убедиться, что большинство из них вышли из простых семей, из народных глубин, из сел, где их голоса зрели среди роскоши живой природы{8}. Оценивая сейчас то время и описываемые обстоятельства, я еще и еще раз прихожу к выводу, что Людмила имела бы другую будущность — чище, интереснее и богаче.
Так что Людмила обязательно бы пробилась…
Трудно это вспоминать, трудно писать о своей подруге не только потому, что вся ее жизнь поучительна и хочется ничего не упустить из нее, а это невозможно, — нет, не поэтому. А потому, что в детстве и отрочестве она была легкой и светлой, открытой и доверчивой в общении, независимой по характеру и бесконечно одаренной. Но… ошиблась, совершила глупость. А ошибок и глупости нам природа не прощает, даже в лице родной матери. Вот это сознавать грустно.
С родительской семьей Люде, конечно, не повезло. Тем не менее в детстве казалось, что она мудро не впускает в душу досаду от нее, а потому и не печалится ни о чем и не озадачивается ничем. Я откровенно завидовала такому свойству ее характера и хотела сама быть более стойкой к ударам судьбы! Ведь я и тогда понимала, что не обладаю достаточной степенью внутренней свободы от отношений, бурлящих рядом со мной. Имеются в виду отношения между родными, которые зачастую строились неправильно, а я не умела не замечать этого или оставаться лишь бесстрастным наблюдателем и считать, что это не касается лично меня. Мне мешала впечатлительность, зависимость от домашней обстановки, изводящее желание улучшить ее и дышать легче. Но это оказывалось мне не под силу ввиду естественных причин — никто не властен над другими. Глядя же на Люду, я видела позитивный пример, и на время, случалось, обретала силы, приободрялась, находила мужество выживать в неблагоприятных условиях. Уж если она радуется жизни, — при всех сложностях ее семьи! — то мне и подавно нечего впадать в уныние, — думала я.
Я была уверенна, что она предчувствует звезду своего счастья и обязательно найдет ее. Так бы оно и было. Да вот не помогли ей...{9}
Безусловно, я пишу о своем восприятии событий.
Длинная хата под двускатной крышей, в которой жила семья моей подруги Люды, была угловой — торцом выходила к улице, а фасадом — к безымянному переулку. От улицы хату отделял палисадник, а между двором, всегда заросшим густым, как ковер, спорышом, и переулком лежал широкий участок земли с реденьким садом, где преобладал вишняк, и огородом. Более основательный сад был разбит в противоположном от улицы конце усадьбы. Там же располагался и роскошный малинник — место примечательное и лично мною любимое. Забора вокруг усадьбы не было, но ее границы по всему периметру обозначались деревьями: вдоль улицы — старыми белыми акациями, со стороны переулка — рядом пирамидальных тополей.
Участок огорода, что ближе к улице, обычно засаживался картофелем, однако там развивалась лишь обильная ботва, а клубни не завязывались, хотя на других участках огорода картофель давал хорошие урожаи. Здесь же из года в год буйствовала бесполезная зелень: сильные стебли поднимались высоко над землей, переплетаясь верхушками, усеянными белыми гроздьями соцветий. Бурьяна между переплетенными кустами не было, разве что на свободных пятачках земли расстилалась березка, а затем вскарабкивалась по картофельной ботве на самый верх и подставила солнцу свои розоватые граммофончики.
Но хозяева упорно высаживали здесь картофель, а зачем — непонятно. Почему нельзя было посадить, например, фасоль, раз уж грунт непременно отдавал предпочтение развитию надземной части растений?
Мне всегда хотелось забраться на эти грядки, особенно в жаркие дни, не без оснований полагая, что там, под ботвой, прохладно и хорошо. А когда шел дождь разлапистые картофельные листья, расположившись каскадом друг над другом, стойко встречали удары очумелых капель и издавали при этом нечто вроде крика, наполненного восторгом и азартом сражения.
В Славгороде дожди шли не такие как везде. Так я полагала. Дело было не в том, что на землю выпадало много осадков, даже не в том, что зачастую вместо капель они изливались более крупными порциями, до сир пор остающимися без названия. Особенность славгородских дождей состояла в другом: эти безымянные порции падали друг за дружкой безлакунно, словно небо и землю связывали невидимые нити, по которым и устремлялась вода. Казалось, стоит потянуть за одну из них и в руках окажется целое облако, хлюпающее и брызгающее дождем.
Дожди вызывали у меня больше энтузиазма, чем соседский картофель. Только мой восторг выражался в несколько эксцентричных формах. Я надевала купальник, брала мыло и шампунь, выходила на открытое пространство (зачастую это была середина двора) и купалась под струями, словно под душем. Ух, как мне это нравилось! Энергично массируя голову, я взбивала на волосах кучу пены и мыла их, пока они не начинали скрипеть от чистоты и обезжиренности. Коже доставалось еще больше, и в конце купания она горела от растираний, все мышцы давали о себе знать, потому что просто мыться мне было скучно. Мытье я сочетала с прыжками и бегом, с наклонами и поднятием тяжестей (предпочитая пятикилограммовые гантели). Это было зрелище, что надо. Я отлично разбиралась в дождях, знала их нрав и повадки, могла прогнозировать их поведение, естественно, для того чтобы удобнее пользоваться ими.
В отличие от соседей, у которых стояли заборы или их заменял ряд декоративных деревьев, нашу усадьбу огораживали кусты желтой акации, подстригаемые папой с регулярностью раз в год — осенью. К середине лета эта изгородь значительно вытягивалась вверх, но это не скрывало меня от любопытных глаз, до которых мне дела не было.
Жители нашей улицы вначале посматривали на меня с осуждением и негодованием, а потом привыкли и стали посматривать с тревогой — простудится. Но со временем смирились и перестали удивляться. Правда, подражать никто не осмеливался. Зато в жаркие дни стали ходить дома в купальниках все, даже пожилые женщины. А купаться под дождем? Нет, тут нужен был особый кураж. Но, кроме меня и Люды, детей отчаянного возраста на улице не было, и куражиться было некому.
Так и получилось, что купающаяся под дождем я стала приметой теплых летних дождей. Если меня не видели, то спрашивали:
— Люба уехала, что ли? Где она?
Однажды пустился очередной проливной дождичек, который по моим прогнозам должен был продлиться не менее полчаса. Верная себе, я уже вышла на середину двора, поставила там видавший виды самодельный табурет, на котором разложила шампуни, мыло, мочалки, массажные щетки и все такое, когда услышала всполошенный крик Людиной бабки, бабушки Федоры.
— Куда? Кыш домой! Домой говорю! А чтоб тебя дождь намочил. И-и-и! Ой! Ой! — визжала она так, как визжит всякий, кому за шиворот внезапно — и запно тоже! — попадает вода.