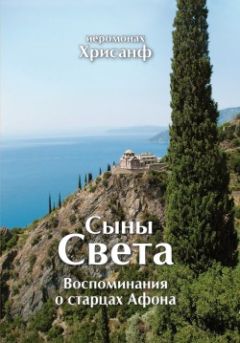Но как нам с дорогой моей Дарой ехать на том же корабле, что повезет отца Фатутто? Мысль об этом приводит меня в содрогание. По счастью, со мной будет мой отважный муж: он защитит меня. А что станет с Дарой, у которой нет мужа? Словом, остается одно – уповать на провидение.
Впредь писать тебе будет мой милый Амабед. Он поведет дневник наших судеб и обрисует тебе новые земли и небеса, которые предстоит нам увидеть. Пусть Брама еще долго хранит твою бритую голову и разум, вложенный им в твой мозг!
ПЕРВОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Итак, я еще в числе живых! Я вновь пишу тебе, божественный Шастраджит! Я узнал все, и ты тоже все знаешь. Отрада Очей ни в чем не виновна, да и не могла быть виновна: вместилище добродетели – сердце, а не какое-нибудь иное место. Фатутто, этот носорог в лисьей шкуре, по-прежнему нагло заявляет, что крестил нас с Адатеей в Бенаресе на европейский манер и что я apostato, а Отрада Очей – apostata. Он клянется нагим человеком, изображенным здесь чуть ли не на каждой стене, что его облыжно обвинили в насилии над моей супругой и ее верной служанкой Дарой. Со своей стороны Отрада Очей и кроткая Дара клятвенно утверждают, что были поруганы. Ум европейцев бессилен проникнуть в эту бездну мрака; они твердят, что разобраться тут может лишь наместник божий, поскольку он непогрешим.
Завтра коррежидор дон Жеронимо отсылает всех нас морем к этому необыкновенному существу, которое никогда не ошибается. Верховный судья варваров, он живет отнюдь не в Лиссабоне, а гораздо дальше, в величественном городе, именуемом Рум. У нас в Индии слыхом о таком не слыхивали. Какое тягостное путешествие! Чего только не претерпевают дети Брамы в здешней краткой жизни!
Попутчиками нашими будут европейские купцы, певицы, два пожилых офицера из войск португальского короля, накопившие в нашей стране много денег, жрецы наместника божия и несколько солдат.
Какое счастье, что мы выучились итальянскому, обиходному языку всех этих людей. Португальского мы бы просто не поняли. Зато ужасно другое – плыть на одном судне с Фатутто. Сегодня нам уже велено ночевать на корабле: с восходом он выйдет в море. Мне с женой и Дарой отвели маленькую комнатку – шесть шагов в длину, четыре в ширину. Говорят, это большая привилегия. Нам пришлось запастись всякими мелочами на дорогу. Вокруг невообразимый шум и гам. Народ толпами сбегается поглазеть на нас. Отрада Очей плачет, Дара дрожит. Придется потерпеть! Прощай и вознеси за нас свои святые молитвы Предвечному, сотворившему несчастных смертных ровно 115 652 годичных оборота солнца вокруг земли (или земли вокруг солнца) тому назад.
ВТОРОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА С ДОРОГИ
На второй день плавания корабль подошел к Бомбею, захваченному человекоубийцей Альбукерком, которого именуют здесь Великим. Поднялся адский грохот: наше судно дало девять пушечных выстрелов, и таким же числом их ответили с городских укреплений. Отрада Очей и юная Дара уже решили, что пришел наш последний час. Нас окутал густой дым. Но поверишь ли, мудрый Шастраджит? Это была простая вежливость – так варвары приветствуют друг друга. Шлюпка привезла из города письма, отправляемые в Португалию, и мы вышли в открытое море, оставив справа устье великой реки Джамбудвипы [40] – варвары называют ее Индом.
Вокруг нас только простор, который именуется небом у этих разбойников, недостойных настоящего неба, да беспредельное море, которое они переплыли, подгоняемые алчностью и кровожадностью.
Капитан, однако, кажется мне человеком порядочным и разумным. Он не разрешает отцу Фатутто появляться на палубе, когда мы поднимаемся подышать воздухом, а когда он наверху, мы остаемся внизу. Он и мы – словно день и ночь, никогда не возникающие на горизонте одновременно. Я непрестанно размышляю о том, как судьба играет злополучными смертными. Мы плывем по Индийскому морю с каким-то доминиканцем, чтобы судиться с ним в Руме за шесть тысяч миль от нашей родины.
На корабле есть важное духовное лицо, именуемое раздавателем милостыни [41], хотя оно вовсе ее не раздает. Напротив, это ему суют деньги за чтение молитв на языке, не похожем ни на итальянский, ни на португальский и не понятном никому из экипажа, включая, кажется, самого раздавателя: он постоянно спорит с отцом Фатутто о значении произносимых им слов. Капитан сказал мне, что раздаватель – францисканец [42], а Фатутто – доминиканец, и они по убеждению держатся противоположных взглядов на все. Их секты – заклятые враги, и, чтобы подчеркнуть различие во мнениях, они даже платье носят различное.
Францисканца зовут Фамольто [43]. Он ссужает меня итальянскими книгами, трактующими о вере наместника божия, перед которым мы должны предстать. Мы с моей милой Адатеей читаем их, а Дара слушает. Сперва она отказывалась присутствовать при чтении, чтобы не прогневить Браму; но чем больше мы читаем, тем больше укрепляемся в приверженности к святым догматам, которым ты учишь верующих.
ТРЕТЬЕ ПИСЬМО АМАБЕДА С ДОРОГИ
Раздаватель милостыни прочел с нами послания одного из главных святых итальянской и португальской церкви. Его звали Пюалем. Ты, знающий все, знаешь, без сомнения, и Пюаля [44]. Это великий человек: некий голос сверг его с коня, а луч света ослепил; он, как и я, насиделся в темнице, что ставит себе в заслугу; он добавляет также, что пять раз получил по 39 ударов бичом, то есть, в сумме, 195 ударов по ягодицам; кроме того, его трижды били палкой, хотя число ударов не уточнено, и один раз забросали камнями, что уже чересчур – от такого не оправишься. Он утверждает, наконец, что провел сутки на дне морском. Мне очень его жаль, но за свои страдания он все-таки вознесен на третье небо. Признаюсь, высокоученый Шастраджит, я не отказался бы от такой участи, даже если бы это обошлось мне в 195 хороших ударов розгой по заду.
Прекрасно смертному на небеса подняться.
Прекрасно и упасть оттоль, -
как выражается один из наших превосходных индийских поэтов [45], достигающий иногда подлинного величия.
Наконец я узнал, что Пюаля, как и меня, препроводили в Рум на суд. Выходит, дорогой Шастраджит, Рум во все времена был судьей для смертных? Этот город наверняка чем-то превосходит остальной мир; все, кто едет на нашем корабле, клянутся только Румом, да и в Гоа все вершилось именем Рума.
Скажу больше. Бог нашего судового священника Фамольто, а он у него тот же, что у Фатутто, родился и умер в стране, зависимой от Рума, и сам платил подать Заморину [46], который правил тогда этим городом. Не находишь ли ты все это крайне странным? Мне, например, кажется, что я словно во сне, равно как и те, что окружают меня.
Фамольто прочитал нам о вещах еще более невероятных. То осел говорит по-человечески [47], то святой проводит трое суток во чреве китовом [48], после чего выходит оттуда в прескверном расположении духа. Некий проповедник улетает читать проповеди на небо в огненной колеснице [49], влекомой четверкой огненных коней. Некий ученый переходит море посуху [50] в сопровождении трех миллионов человек, спасающихся вместе с ним бегством. Другой останавливает солнце и луну [51], хотя последнее меня не удивляет: ты поведал мне, что Вакх делал то же самое.
Больше же всего меня, человека, строго блюдущего чистоту и стыдливость, возмущает то, что бог этих людей повелел одному из своих проповедников печь хлеб на человеческом кале [52], а другому спать с продажной блудницей [53] и иметь от нее детей.
Есть кое-что и похуже. Фамольто, ученый человек, остановил наше внимание на истории двух сестер – Оголы и Оголины [54]. Ты, разумеется, знаешь – ты все читал. Это повествование так смутило мою жену, что у нее покраснели даже белки глаз; бедная Дара, выслушав этот отрывок, прямо-таки запылала от стыда. Фамольто, видимо, большой шутник. Тем не менее, заметив, насколько прочитанное покоробило меня и Отраду Очей, он тут же захлопнул книгу и удалился, сказав, что должен обдумать текст.
Он оставил мне свою священную книгу, и я прочел наугад несколько страниц. О Брама, о правосудие небесное! Что за люди описаны в этом сочинении! Все они в старости спят со своими служанками [55]. Один творит мерзость с женой отц [56]а, другой – с невесткой [57]. Здесь целый город непременно хочет обойтись с неким бедным священником, как с красивой девушкой [58]; там две знатные юницы спаивают родного отца [59], поочередно спят с ним и приживают от него детей.
Но окончательно повергла меня в ужас и омерзение повесть о том, как обитатели великолепного города, к которым бог послал двух небожителей, постоянно пребывающих у подножия его престола, двух чистых духов в ореоле божественного света… Перо мое содрогается, как и душа!… Решусь ли договорить?… Так вот, эти горожане изо всех сил пытались осквернить посланцев господних [60]. Что гнуснее плотского греха мужчины с мужчиной? А с небожителем? Мыслимо ли такое? Дорогой Шастраджит, благословим Бирму, Вишну и Браму и возблагодарим их за то, что мы никогда не знали этого непостижимо гнусного порока. Говорят, завоеватель Александр пытался когда-то укоренить этот пагубный обычай в нашей стране и прилюдно блудил со своим любимцем Гефестионом. Небо покарало их: оба они погибли во цвете лет. Приветствую тебя, повелитель души моей, разум моего разума. Адатея, скорбная Адатея вверяет себя твоим молитвам.