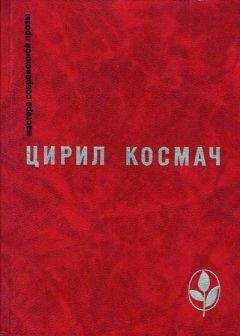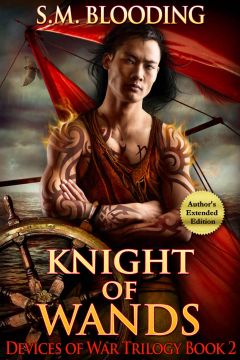— Куда он подался?
Якоб показал палкой на гору. Даже не оглянувшись на фыркающих лошадей, Жеф садом вышел на широкую расхлябанную дорогу над рекой.
— Испугались, проклятые, — кипел он, жалея, что они не видели, как он собирался вешаться. — Вот крику было бы, руки б ломали от горя.
Жеф шел между вербами, спотыкаясь о корни. Ветки хлестали по лицу, за воротник стекала вода. Выйдя на узкую мокрую просеку, он остановился среди черных широколистых лопухов и сдвинул шапку на затылок. На сердце была жгучая пустота. А ведь он возвращался, полный большой светлой надежды. Нес ее в потных руках, как ребенок игрушку. А теперь эта надежда словно затерялась в высокой болотной траве. И как у ребенка, от обиды и злости у него потекли слезы, застревая в глубоких морщинах на небритых щеках, в уголках рта.
Жеф достал из кармана кисет, сунул в рот табак, разжевал, сильно работая зубами, и выплюнул далеко в кусты. Вышел к реке. Река текла, шлифуя огромные камни. От ее мягкого плеска у Жефа заныли ноги. Он вспомнил, что две недели не разувался, уселся и начал стягивать сапоги. Резкий запах пота ударил в нос, пальцы на ногах были разъедены. Жеф медленно опустил ноги в воду. Ночь была светлой. Над гребнем горы тянулась белая дымка, по долине гулял ветерок. «К погоде», — понимающе кивнул он. Ближе к противоположному берегу вода с шумом разбивалась об утес. Где-то в запруде охотилась выдра. Неподалеку в усадьбе пропел петух. Занималось утро.
Жеф сидел над рекой и жевал табак. Потом натянул сапоги на босые ноги и зашагал в село. Люди уже вставали, из труб поднимался дым. Жеф направился к Цестарю, уселся за стол и, надвинув на глаза шапку, приказал:
— Водки!
Цестарь подошел вразвалку, подтягивая на ходу штаны на круглом животе и заправляя рубашку. Достал деревянную табакерку, ухватил щепоть табаку, положил на тыльную сторону ладони и втянул в нос. Уставившись на Жефа, закричал:
— Те-те-те, пятнадцать петухов, гляди-ка, да это никак ты, куманек Жеф? Когда вернулся? Сегодня? А дома что ж? Нет еще? Перво-наперво ко мне? Еще бы! Те-те-те, пятнадцать петухов, сколько ж мы с тобой не виделись? Ой-ой, а ведь тебя считали пропавшим без вести. Молились за тебя. А я всегда говорил: «Конечно, все в божьей власти, но я верю, вернется». И ты вернулся. Те-те-те, пятнадцать петухов!
Жефа трясло от злости. Он прятал руки под стол, чтобы не дать Цестарю в ухо. Он и раньше терпеть его не мог: толстый как бочка, а язык что помело. «Куманек, куманек, пятнадцать петухов». Черт бы его побрал! Жеф молча выпил водку и поставил стакан перед Цестарем.
— Еще!
Цестарь вышел, но вскоре вернулся. Подтянув штаны, насыпал табаку на руку и не спеша втянул в нос.
— Так, говоришь, дома не был? Те-те-те, пятнадцать петухов! — взялся он за свое, громко чихнув. — Нехорошо, нет. Понятно, все мы грешники, все, но бог простит — тело грешно, а душа чиста. И еще, куманек, сам понимаешь, как-никак это Медведевы…
Жеф был сыт по горло. Он сдвинул шапку на затылок и грудью пошел на Цестаря, тот отскочил.
— Молчи уж! Те-те-те, пятнадцать петухов, все они одинаковые. И твоя не лучше. Трактирная баба что качели — кто хочет, тот и качается! — кривил он рот в крике.
— Куманек, нехорошо говоришь, — забормотал Цестарь, испуганно отступая.
Жеф умолк. Натянул шапку на глаза, зло сжал губы.
Весть о том, что вернулся Жеф и пьет у Цестаря, разнеслась по селу. Мужчины один за другим заходили в трактир, похлопывали Жефа по плечу, о чем-то спрашивали, не получив ответа, говорили добрые слова и, выпив вина, уходили. Пришли бабы. Пасенчуркова Ера, умевшая вычистить языком все углы, безбоязненно подошла к Жефу, поправила ему шапку и, любуясь своей ролью утешительницы, пропела:
— Эх, и на что тебе было жениться, но, видно, бог ведает, что творит.
Эти слова задели Жефа за живое, он вскочил, точно в него плеснули кипятком, шапка сползла на затылок, обнажив мокрую лысину.
— Что? Бог ведает? Значит, бог ведает, что творит? А разбойник или вор тоже ведают, что творят? А если я вобью тебе голову в живот или вышвырну свою бабу в окно, выходит, и я ведаю, что творю? Или как? Что ж это за дела? Война — иди с богом на смерть. Мир — живи с богом мирно. Вот тебе святые заповеди и пащенок в придачу. А где он теперь, бог, со своей помощью? Сидит в небесах на золотом престоле, слушает пение ангелов да, прищурясь, разглядывает в дырку наш свет. Само собой, видит меня и скорбит, и записывает в долговую книжку, как Цестарь: «Те-те-те, пятнадцать петухов, Жеф меня поносит, Жеф — богоотступник, Жеф свою бабу выгнал». Так говорю или не так? Так. У кого деньги да пушки, с теми и бог. Царь с царем помирится, ворон ворону глаз не выклюет. Трус да угодник с богом ладят. Да здравствует война! Долой войну! Что сегодня грех, то завтра добро, а что добро, то грех. — Жеф выпил залпом еще стакан водки, опять натянул шапку на глаза, пожевал табак и выплюнул прямо на пол. Теперь он мог помолчать. Старухи, слушая его, крестились.
В те дни вернулись с войны еще несколько солдат, это прошло незаметно. А вот о Жефе Обрекаре говорили все. Слух о его разгуле и богохульстве дошел до священника. Настало воскресенье. Кончив читать Евангелие, священник достал пестрый платок и громко высморкался. Все знали, что это не к добру. И верно, почти вся проповедь была посвящена Жефу Обрекару, сбившемуся с истинного пути католику, который прежде жил тихо и праведно, в страхе божьем, и в страхе божьем воспитывал детей своих. Но семя порока запало в его душу, и бог оставил его своей милостию. Богохульничает Жеф Обрекар, над ним же перст божий.
А Жеф пил и в воскресенье.
— Выгоню, — говорил он каждому встречному. — Вы б видели, как она стояла, важная да гордая, будто новый дом мне подарила. Впору на колени броситься и сказать: «Благодарю тебя от души за такое старание». Выгоню. Выгоню и возьму себе девку, здоровую, молодую девку. А Нанца пусть убирается, не то я ей голову оторву.
— Молодец, Жеф, так и сделай, — одобряли приятели.
Весь день он пил и буянил, размахивал ножом, проклинал все на свете, к вечеру глаза у него совсем помутнели и закатились. Явились жандармы и вышвырнули его из трактира.
Шатаясь, Жеф пошел через мост в село с твердым решением убить Нанцу, но силы его оставили, он свалился прямо на дороге. Проснувшись, увидел, что уже темно, и побрел дальше. Хмель еще не вышел, однако Жеф начал понимать — пора взять себя в руки, как подобает мужчине. Хватит буянить и срамиться. Он придет домой и укажет жене на дверь. «Чтоб духу твоего здесь не было, и твоего тоже», — он имел в виду Кати.
Потихоньку, стараясь остаться незамеченным, повернул на тропинку, пролез через дыру в ограде и вошел в дом. В кухне было пусто. В углу комнаты сидел Якоб и резал груши для сушки.
— А они где? — спросил Жеф.
— Ушли.
— Когда?
— Да только сейчас.
Жеф был поражен. Он снова надвинул шапку на глаза, сжал кулаки. Не он выгнал, сами ушли. Это его взбесило. От обиды и стыда он готов был провалиться сквозь землю. Проклятые бабы, выходит, они ему указали на дверь. А Якоб, само собой, злорадствует.
— Небось вы их подучили? — набросился Жеф на старика.
— Я? Бог с тобой! — съежился Якоб. — Пасенчуркова Ера прибегала, рассказывала, как ты у Цестаря грозился зарезать Нанцу и нож припас. Вот они и ушли.
— Проклятые, я им покажу, они меня еще узнают! — процедил сквозь зубы Жеф и, хлопнув дверью, вышел. На крыльце постоял, задумавшись, пересек двор, напился воды и улегся на озороде[3].
Уже наступил день, когда Жеф проснулся. Он потянулся на своем ложе, зажмурился, протер руками глаза и только тогда пришел в себя.
Перед ним поплыли картины минувшего дня. Со стыдом и горечью он увидел себя — вот, шатаясь, бредет по дороге, несет в трактире бог знает что, пьет, как в чаду, водку стакан за стаканом, вскакивает, садится, заламывает руки и ноет, точно баба, которой только и дела, что болтать о кофе и согрешивших девках. Он вел себя как мальчишка. И хныкал как ребенок. Кричал, голос срывался — это вместо того, чтобы солидно сидеть и говорить басом, уверенно, как положено мужчине. Рассказал бы что-нибудь занятное, хотя, может, никто бы его и слушать не стал. А он, пьянчуга, нес всякую чепуху. Бабы, точно, визжали, но бабы визжат по всякому поводу. Священник о нем говорил в воскресной проповеди. Так ничего не добьешься, пользы никакой, только чести поубавилось. Пащенок — вот он, живой, здоровый. Хоть лопни от злости, никуда от него не денешься. Пожалуй, было бы умнее принести ребенку кулечек конфет, взять на руки, поиграть с ним, он-то в чем виноват? А Нанцу вздуть как следует и учить время от времени, чтоб слушалась, одного его взгляда боялась, угадывала б каждое желание, носилась бы с ним, как курица с яйцом, а он…
— Ф-ю-ю… — засвистел Жеф и взмахнул рукой, точно кнутом, — вот так бы и гонял ее, ровно скотину.