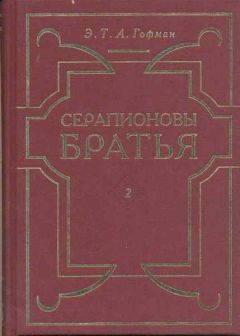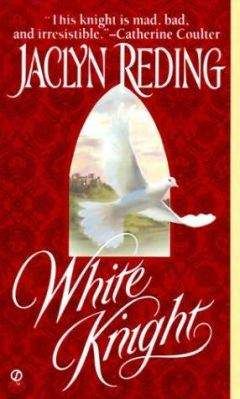Он силился заговорить — и не мог произнести ни звука: язык не слушался его. Наконец овладев собой, он дрожащим голосом произнес:
— Выслушайте меня, синьор Вертуа! Вы ничего — ничего не проиграли мне вот шкатулка — она ваша — и не только это, далеко нет — я ваш должник — берите же, берите!
— О дочь моя! — воскликнул Вертуа, но тут Анжела вскочила с колен, повернулась к Менару, окинула его гордым взглядом и сказала серьезно и решительно:
— Узнайте же, шевалье, что есть нечто, куда более драгоценное, нежели деньги и земное достояние, это — нравственные помыслы, которых вы лишены, тогда как нам они даруют небесное утешение и повелевают презреть ваш дар и ваши милости! Оставьте себе ваши деньги, на которых тяготеет проклятие, и знайте, что вам от него не уйти, бессердечный, отверженный игрок!
— Да! — воскликнул шевалье в каком-то диком исступлении, глаза его блуждали, голос прерывался. — Пусть буду я проклят и низвергнут в преисподнюю, коли эта рука еще дотронется до карт! Но если вы и тогда отвергнете меня, Анжела, вы сами столкнете меня в пропасть, из коей нет возврата! О, вы не знаете, не понимаете — вы назовете меня безумцем, — но вы все почувствуете, все поймете, когда увидите меня с размозженным черепом, Анжела! Дело идет о жизни и смерти! Прощайте!
И шевалье в отчаянии кинулся вон. Вертуа понимал, что с ним творится, словно читал в его душе. И он принялся объяснять прелестной Анжеле, что могут возникнуть обстоятельства, при которых они будут вынуждены принять дар шевалье. Слова отца привели Анжелу в ужас. Она не представляла, как можно относиться к шевалье иначе, чем с презрением. Однако рок, который подчас, неведомо для обреченной жертвы, гнездится в глубочайших глубинах ее души, повелел быть тому, чего не допускали ни рассудок, ни чувство.
Шевалье казалось, будто, внезапно пробудившись от тяжкого сна, он видит себя на краю адской бездны и тщетно простирает руки к сверкающему светозарному образу, который предстал перед ним не затем, чтобы спасти, нет! — но лишь для того, чтобы пригрозить ему вечным проклятием.
К удивлению всего Парижа, банк шевалье Менара исчез из игорного дома, да и сам он нигде не показывался, и о нем поползли слухи, один другого невероятней. Шевалье избегал всякого общества, безответная любовь ввергла его в глубокую неизбывную печаль. И вот случилось, что на одной из темных, мало посещаемых аллей Мальмезонского парка он столкнулся со старым Вертуа и его дочерью.
Анжела, думавшая, что не сможет смотреть на шевалье Менара иначе как с презреньем и гадливостью, почувствовала какое-то неизъяснимое волнение, когда он, бледный, потерянный, остановился перед ней, едва решаясь в благоговейной робости поднять на нее глаза. Ей было хорошо известно, что с той роковой ночи шевалье отказался от игры, что он полностью изменил свой образ жизни. И все это совершила она, она одна спасла его от гибели — что может больше льстить женскому тщеславию?
И случилось, что, когда Вертуа обменялся с шевалье обычными приветствиями, Анжела с нежным, сострадательным участием спросила его:
— Что с вами, шевалье Менар? У вас такой больной, измученный вид. Вам, право же, не мешало бы обратиться к врачу.
Нечего и говорить, что слова Анжелы вселили в шевалье Менара светлую надежду. В мгновенье ока он преобразился. Он поднял голову, и откуда ни возьмись из заветных тайников его души полились, как встарь, задушевные речи, покорявшие когда-то сердца. Вертуа напомнил ему, что выигранный им дом ждет нового хозяина.
— Знаю, знаю, — с готовностью откликнулся шевалье, — я к вашим услугам. Непременно буду к вам завтра же, но, с вашего разрешения, нам надо хорошенько все обсудить, а для этого потребуется не один месяц.
— Что ж, я не возражаю, — = с улыбкой согласился Вертуа, — а тем временем, сдается мне, у нас может возникнуть много новых тем для обсуждения, о которых покамест не приходится и думать.
Вполне естественно, что, обретя надежду, шевалье воспрянул духом, и к нему вернулось прежнее обаяние, так отличавшее его, пока им не овладела безумная пагубная страсть. Все чаще и чаще бывал он в доме у Вертуа, и все больше росла склонность Анжелы к тому, чьим ангелом-хранителем она стала, пока она не поверила, что любит его всем сердцем, и не обещала ему своей руки, к великой радости старого синьора Вертуа, который только теперь избавился от своих тревог, так как дело с его карточным долгом устроилось к общему удовольствию.
Анжела, счастливая невеста шевалье Менара, сидела как-то у окна, погруженная в те мечтания о любви и блаженстве, каким обычно предаются юные невесты. Мимо дома под веселое пение труб проходил стрелковый полк, предназначенный к отправке в Испанию. Анжела с глубокой жалостью взирала на воинов, обреченных смерти в лютой войне, как вдруг взор ее встретился со взором всадника, который, резко повернув к ней коня, смотрел на нее в упор, — и тут она без чувств упала в кресло.
Ах, юный воин, шедший навстречу смерти, был не кто иной, как молодой Дюверне, сын их соседа, — они с Анжелой росли вместе, он почти ежедневно бывал у них в доме и бесследно исчез с тех пор, как к ним стал захаживать шевалье Менар.
Глаза юноши, обращенные к ней с укором, — от них уже веяло на нее холодом смерти — впервые сказали Анжеле не только как невыразимо он ее любит, нет, — но и как беспредельно любит его она, сама того не зная, и что она лишь зачарована, ослеплена блеском, исходящим от шевалье Менара. Только теперь стали ей понятны робкие вздохи юноши, его самоотверженное поклонение, лишь теперь разгадала она свое смятенное сердце, и ей открылось, что волновало ее трепетную грудь, когда приходил Дюверне и она слышала его голос.
«Слишком поздно… он для меня навек потерян», — прозвучало в ее душе. Но Анжела мужественно постаралась заглушить это чувство горькой безутешности, а так как у нее не было недостатка в мужестве, то это ей и удалось.
Вторжение чего-то нового, смущающего не ускользнуло от проницательного шевалье, однако, щадя Анжелу, он не стал добиваться ключа к ее тайне и только, предупреждая возможную опасность, торопился со свадьбою, проявляя, однако, такую деликатность и бережное понимание настроений и чувств своей прелестной нареченной, что она лишний раз убедилась в прекрасных душевных качествах своего избранника.
Шевалье так нежно предупреждал малейшее желание Анжелы и проявлял к ней такое нелицемерное уважение, проистекающее из чистейшей любви, что память о Дюверне постепенно угасла в ее душе. Первой тенью, омрачившей ее безоблачную жизнь, была болезнь и смерть старого Вертуа.
С того вечера, как старик проиграл шевалье Менару все свое состояние, он не прикасался к картам, но последние его минуты были вновь омрачены роковой страстью. В то время как священник, пришедший даровать умирающему утешение церкви, говорил ему о возвышенном и нетленном, Вертуа лежал с закрытыми глазами, бормоча сквозь стиснутые зубы «perde-gagne», — и даже в предсмертной агонии не переставал он перебирать дрожащими пальцами, словно тасуя карты и меча банк. Напрасно склонялись над ним Анжела и шевалье с ласковыми словами увещания, он, видимо, не узнавал их, не замечал их присутствия. И даже с последним беззвучным вздохом пролепетал он «gagne».
Как ни оплакивала отца Анжела, эта зловещая кончина вселила в нее какой-то смутный трепет. Перед нею неотступно стояли видения той страшной ночи, когда шевалье явился ей отъявленным бессердечным игроком, и ее томило ужасное опасение, что муж рано или поздно сбросит ангельскую личину и, обнажив свое исконное демонское естество, насмеется над ней и примется за старое.
Тяжелое предчувствие Анжелы не замедлило сбыться.
Кончина старого игрока, который еще при последнем издыхании, презрев утешение религии, цеплялся за свою прежнюю греховную жизнь, — эта кончина навеяла и на шевалье Менара какой-то темный страх; но она же, непостижимым образом смутив его воображение, воскресила в нем с необычайной живостью былую страсть, и теперь он каждую ночь видел себя во сне за карточным столом, загребающим сказочные богатства. Преследуемая воспоминаниями об их первом знакомстве, Анжела все больше замыкалась в себе, но по мере того как в ее отношении к мужу исчезала прежняя доверчивость и простодушная нежность, такое же недоверие закрадывалось в сердце шевалье, ибо замкнутость Анжелы он приписывал той самой тайне, что уже однажды нарушила ее душевный покой и так и осталась для него загадкой. Недоверие порождало в нем раздражение и злобу, искавшую выхода в язвительных замечаниях, оскорблявших Анжелу. По странному взаимодействию человеческих душ, мысли Менара, передаваясь Анжеле, разбередили в ней воспоминание о бедном Дюверне, а с ним и безутешное чувство загубленной любви, этого прекраснейшего цветка, едва успевшего дать всходы в двух юных сердцах. Отчуждение супругов росло с каждым днем, пока шевалье не опостылело его скромное существование, он находил его скучным и пошлым и всей душой рвался к новым впечатлениям.