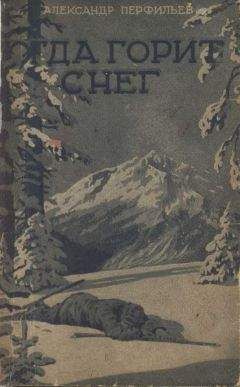Она застыла в напряженном ожидании, вглядываясь в его лицо: не дрогнет ли.
Он уловил эту напряженность, хотя не понимал, почему ее волнует этот вопрос. Не все ли ей равно, кто он? Но почему-то, вспомнив, что в госпитале его называли русским, он остро подсознанием почувствовал, что говорить ей этого не надо, что если он скажет — случится что-то больное и непоправимое. И от этой неопределенной, неоформленной и потому тяжелой, давящей мысли ему стало неприятно и тоскливо. Он закрыл глаза, чтобы не встречаться со смущавшим его взглядом женщины и отвернулся.
— Ты француз? — настойчиво переспросила она.
— Да… — он принужденно улыбнулся, не глядя на нее.
И хотя это короткое отрывистое слово разрушило все ее предположения, инстинкт подсказал ей, что это именно он, изменившийся, странный, но все же именно он, близкий, свой родной…
Она похолодела от мысли, что он узнал ее, и не хочет видеть такой, какой она стала теперь, но сейчас же отбросила эту мысль. Нет, так он не мог измениться.
Женщина беззвучно рассмеялась. Это было все, чем она могла выразить беспредельность своей муки, которую давно уже ничто не могло облегчить.
Вздор… Разве нельзя было преодолеть всего, оставаясь чистой?
Кто знает, через какие испытания ей пришлось пройти? Да и кому это надо знать? Тем, кто к ней приходят? А разве он, узнав, поймет и простит?
Нет, пусть лучше он уйдет, как все, таким, каким он пришел к ней.
И если ему суждено вспомнить — то память о ней будет светлой и неомраченной.
Полковник Ренье, начинавший уже чувствовать себя закоренелым провинциалом, с радостью окунулся в весенний Париж, вспомнив Сен-Сир и беспечные юношеские годы. Вдобавок, он был сильным, здоровым мужчиной около пятидесяти лет, уцелевшим от физических и душевных потрясений войны.
Она была чудесна, эта маленькая русская, встреченная им на рю д’Опера. Не очень молодая, но и не потасканная. Немного грустная, но и не настолько, чтобы это портило настроение. У нее были чудесные манеры, говорящие о былой лучшей жизни, воспоминания о которой не могли вытравить ни полуголодное изгнание, ни ее профессия.
Они сидели за отдельным столиком ночного ресторана, а кругом скользили танцующие пары, сплетаясь в телодвижениях танца, скорее походившего на массовое радение.
Полковник Ренье очень долго не видел женщин. Ему было трудно говорить со своей спутницей. Он отвык от болтовни, и вместе с тем был слишком чуток, чтобы говорить этой маленькой грустной женщине обычные пошлости, неудобные при настоящем положении. Он вспомнил своего русского друга и счел удобным коснуться этой темы.
— Мой русский друг… Мой спаситель. Мы были с ним очень дружны… Марна, Сомма и Луара… Вогезы…
Вино подогрело воспоминания, и полковник Ренье рассказывал, извлекая с успокоившегося дна прошлого похороненные и забытые обломки.
Оркестр играл тягучее танго, в котором так странно переплеталось томление эротического экстаза с предсмертной тоской обреченности… И под эту грустную музыку, почти не слушая Ренье, женщина думала о вечном, неизбежном и неотвратимом: о любви и смерти. О тех странных путях, по которым идут эти неизменные спутники нашей жизни… И о человеке, потерявшем свое прошлое… забывшем все… даже ее…
— Алексей де Савицки…
Она вздрогнула. Кто это сказал? Она не ожидала, чтобы кто-нибудь здесь сейчас мог произнести это имя. Его нет больше и не может быть… Неужели она начала бредить?
Танго оборвалось на нежной, тающей, дрожащей ноте…
— Алексей Савицкий, — машинально повторила она вслух и, закрыв глаза, откинулась на спинку кресла.
Ренье выплыл из потока воспоминаний.
— Что с вами? Вам плохо?
— Нет, ничего. Она с усилием раскрыла глаза. — Вы рассказывали о боях в Вогезах. Продолжайте… Это так интересно…
В Вогезах? Но он давно уже рассказал об этом и перешел к истории Алексиса де Савицки… Конечно, она его не слушала. Мысленно он выругал себя за излишние сантименты. Что за глупая манера, рассказывать первым встречным женщинам о военных переживаниях… Мальчишество!
— Дорогая крошка… вам надоела моя болтовня. Поэтому вы и не слушали ее. Не протестуйте. Я нисколько не в претензии. Я понимаю, что теперь лучше не вспоминать о войне и смерти. Будем лучше говорить о любви. Ваше здоровье! И взяв бокал, он добавил:
— А я думал, что вас может заинтересовать судьба компатриота, моего друга … Хотя бы потому уже, что он не может, так, как мы с вами, сделать экскурсию в область прошлого.
Бокал задрожал в ее руке, и вино потекло на скатерть, расплываясь на белой поверхности желтым пятном…
— Простите…
— Но я вижу, вам действительно плохо. Понимаю. Не будем говорить о прошлом. Я не хотел причинить вам боли. Давайте думать лучше, что мы обо всем забыли, как…
Она заставила себя улыбнуться:
— Как ваш друг? Человек без воспоминаний?
— Совершенно верно. Я думаю, нам пора. На свежем воздухе вам станет лучше… Или мы возьмем такси.
В эту тихую весеннюю ночь, когда все живое в огромном городе было наполнено томлением любви, грусти и воспоминаний, он был, вероятно, единственным человеком, забывшим прошлое и не знавшим настоящего. В силу привычки он думал, но мысли, приходящие ему в голову, имели какой-то хаотический, бесформенный вид, напоминавший скорее бред, чем логический процесс мышления.
Он забыл о данном ему в госпитале адресе, где мог остановиться. Женщина, у которой он недавно был, расплылась в сознании мутным пятном.
Он бесцельно бродил по бульварам, кишевшим влюбленными парочками.
Никто не обращал на него внимания. Только когда он задержался на мосту и несколько минут смотрел на черную воду Сены, с прыгающими по ней огнями, к нему подошел ажан и, козырнув, попросил предъявить документы.
Впрочем, ажан, тут же заметил при свете фонаря ленточку Почетного Легиона и успокоенный козырнул еще вежливее, добавив вскользь что-то о самоубийцах и подозрительных личностях и о том, как трудно уследить за всем этим.
Савицкий дал ему сигарету и пошел дальше, забыв о привлекшей его внимание реке и отраженных в ней огнях.
Когда он переходил улицу, то заметил вдалеке два набегавших на него из темноты желтых автомобильных глаза.
Почему-то они привлекли его внимание. Он остановился и стал всматриваться, не отдавая себе отчета в том, что стоит посреди дороги.
В этих приближающихся, постепенно вырастающих желтых глазах было что-то притягивающее.
Они рождали мутное воспоминание обо всем потерянном, протягивали какую-то неуловимую нить к прошлому. И вглядываясь в них, он впервые ощутил странную, острую, щемящую грусть, ту самую грусть, которая приходит к нам, когда мы вспоминаем о том, что было и никогда не вернется.
Это неведомое ощущение потрясло его до слез, до сладко мучительного клубка в горле, до заглушенного рыдания.
И вслед за этим сразу, как в прорванную бешеным потоком плотину, на него хлынули отошедшие годы, месяцы, недели, дни, минуты, города, лица, события.
И самое яркое из всего: два желтых паровозных глаза…
Два желтых огня, мутная сталь рельс и прижавшаяся к нему женщина, которую он оставлял навсегда.
А дальше… фронт, экспедиционный корпус, Сомма и Луара, Вогезы, Марна, полковник Ренье, госпиталь… все вплоть до сегодняшнего вечера, до тихой комнаты на окраине Парижа, до грустной женщины — той самой — о Боже, той самой!..
Он стоял, придавленный этой непомерной тяжестью, обрушившейся на него сразу.
А желтые глаза надвигались… ему казалось, те, паровозные … Да, да, — конечно, это тот самый паровоз. Он прорвался к нему из мрака прошлого и сейчас раздавит его. Это — то прошлое, которое он забыл.
Только несколько секунд отделяло его от желтых набегающих огней.
Только несколько коротких мгновений промелькнули с тех пор, как они появились.
А ему казалось — прошли годы, вернее, ничто не прерывалось с той последней ночи. Было ощущение, что все эти прошедшие пять лет он шел среди тумана, вдоль тускло блестевших рельс, навстречу неотвратимым желтым огням. И вот они, наконец, перед ним, вплотную…
И он уже не может отойти в сторону…
Два ярких снопа лучей ослепили его.
Два желтых глаза и женщина — Боже мой, та самая!..
Что-то огромное, черное, неизбежное навалилось на него стальной грудью, швырнуло, подмяло под себя…
Он больше ничего не помнил…
На запотевшем переднем стекле автомобиля, как на экране, на мгновенье возникла черная тень. И, прежде чем шофер успел о ней подумать, машина наткнулась на что-то мягкое, мешавшее ее движенью; она навалилась на препятствие стальной грудью и, слегка дрогнув, задребезжав стеклами, отшвырнула посторонний предмет. Затем, повинуясь тормозу, остановилась.