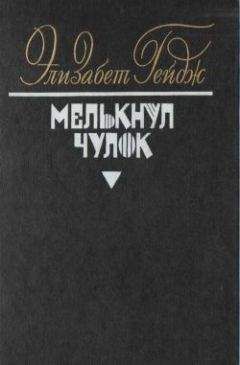— Услыхал бы ты ночью этих птах, небось разбудил бы меня, — мол, по деревьям лошади скачут.
Мы еле плелись назад, дедушка устал, и тот, тощий, вышагивал из запретного леса, неся на руке зайца — нежно, как руку девушки в меховой шубке.
За день до отъезда меня возили в Лланстефан на маленьком, хилом, запряженном в двуколку пони. Дедушка будто бизоном правил — так туго натягивал вожжи, так яростно щелкал хлыстом, так безбожно распугивал игравших на дороге мальчишек, так лихо раскорячась стоял в своих гетрах и клял норовистость и прыть едва ковылявшего пони.
— Поберегись! — кричал он у каждого поворота и натягивал вожжи, надсаживался, потел, как резиновой дубинкой размахивал хлыстом. А когда бедное животное одолевало угол, дедушка поворачивался ко мне с нежной улыбкой:
— Выдюжили, парень!
Мы добрались до стоявшего на взгорке Лланстефана, и дедушка поставил двуколку под вывеской «У Эдвинсфорда», потрепал пони по морде, угостил его сахаром и сказал:
— Ты маленький, слабенький пони, Джим, где уж тебе таких дюжих малых возить.
Дедушке дали крепкого пива, а мне лимонаду, и он расплатился с миссис Эдвинсфорд золотым из звякающего мешочка; она спросила его про здоровье, а он сказал, что Ллангадок для легких пользительней. Мы ходили смотреть на кладбище и на море, посидели в леске под названием Дубки, постояли на эстраде среди леска, где на Иванову ночь пели приезжие и где из года в год выбирали мэром местного дурака. На кладбище дедушка постоял, показал на литые ворота и надгробья с ангелами, на деревянные простые кресты и сказал:
— Никакого смысла нет здесь лежать.
Домой возвращались мы бешено. Джим опять был бизоном.
В последнее утро я поздно очнулся от снов: по лланстефанским водам плыли парусники, длинные, как пароходы; небесные хоры в Дубках, в облачении бардов, но в куртках с медными пуговицами, на каком-то странном валлийском пели песни отплывавшим матросам. Дедушки за завтраком не было, он рано встал. Я бродил по полям с новой рогаткой, стрелял чаек над Toy и грачей на деревьях в саду у пастора. Теплый ветер задувал с тех мест, где ещё держалось лето; утренний туман поднимался с земли, плавал между ветвями, прятал всполошенных грачей. На ветру и в тумане мои камешки взлетали легко, как градины в перевернутом вверх тормашками мире. За все утро я не сбил ни одной птицы.
Я сломал рогатку и пошел обедать через пасторский сад. Когда-то, дедушка мне рассказывал, пастор купил трех уток на Кармартенской ярмарке и вырыл для них посреди сада пруд; но они уходили к сточной канаве под рушащимся крыльцом и плавали и крякали там. Дойдя до конца садовой тропы, я глянул в дыру плетня и увидел, что пастор прорыл через декоративные камни туннель между сточной канавой и прудом и крупными буквами написал: «Дорога к пруду».
Утки по-прежнему плавали под ступеньками.
В доме дедушки не было. Я пошел в сад, но нет, и там не было дедушки, он не разглядывал там деревья. Я крикнул человеку, который налегал на лопату в поле за нашим плетнем:
— Вы не видали моего дедушку?
Не переставая копать, он кинул через плечо:
— Видел я его, он в куртке своей.
Грифф, парикмахер, жил в соседнем доме. Я крикнул ему в открытую дверь:
— Мистер Грифф, вы моего дедушку не видели?
Он выскочил в одном жилете.
Я сказал:
— Он в своей выходной куртке.
Я не знал, важно это или нет, но дедушка только по ночам надевал свою куртку.
— Дедушка был в Лланстефане? — встревожился мистер Грифф.
— Мы туда ездили вчера на двуколке, — сказал я.
Он бросился в дом, и я слышал, как он там говорит по-валлийски, и он снова вышел — в своем белом халате и с цветной полосатой тросточкой. Он зашагал по деревенской улице, а я побежал рядом.
Мы остановились возле дома портного, и он крикнул: «Дэн!» — и Дэн-портной шагнул из дверного проема, в котором он сидел совсем как индийский жрец, только на голове — котелок.
— Дэй Томас надел свою куртку, — сказал мистер Грифф, — и он был в Лланстефане.
Пока Дэн-портной разыскивал плащ, мистер Грифф шагал уже дальше.
— Уилл Эванс! — крикнул он возле плотницкой. — Дэй Томас был в Лланстефане, и он надел свою куртку.
— Сейчас Моргану скажу, — крикнула плотничиха из стучащей, свистящей тьмы.
Мы останавливались возле лавки мясника, и у дома мистера Прайса, и мистер Грифф выкрикивал свое сообщение, как городской глашатай.
Мы собрались все вместе на площади Джонстауна. У Дэна-портного был велосипед, у мистера Прайса — двуколка. Мистер Грифф, мясник, Морган-плотник и я залезли в шаткую двуколку и затряслись в сторону Кармартена. Портной нам прокладывал путь, и так гудел, будто мы спасаемся от разбойников или пожара, и старушка в конце улицы бросилась от калитки в дом как ошпаренная. А ещё одна женщина махала большим платком.
— Куда мы едем? — спросил я.
Дедушкины соседи были торжественны, как старики в черных шляпах и сюртуках на подступах к ярмарке. Мистер Грифф покачал головой и пробормотал:
— Вот не думал я, что Дэй Томас снова такое отмочит.
— Да уж, после того-то раза, — печально сказал мистер Грифф.
Мы тряслись дальше, одолели Холм Конституции, загрохали вниз, в Ламмас-стрит, а портной все звенел, и от него с визгом спасалась собака. Когда мы цокали по булыжникам к мосту через Toy, мне вспоминалась дедушкина ночная езда, сотрясавшая постель и стены, мне виделась куртка, лоскутная голова в мерцании свечи — улыбка и лохмы. Вдруг портной повернулся на сиденье, велосипед качнулся, запнулся.
— Я вижу Дэя Томаса! — крикнул портной.
Двуколка загрохотала по мосту, и я увидел дедушку: куртка сияла пуговицами под солнцем, на дедушке были тесные черные выходные брюки и высокая пыльная шляпа — я её видел в шкафу на чердаке, — он в руке держал старый мешок. Он с нами поздоровался.
— С добрым утром, мистер Прайс, — сказал он, — и мистер Грифф, и мистер Морган, и мистер Эванс.
Мне он сказал:
— С добрым утром, малец.
Мистер Грифф устремил в него свою цветную тросточку.
— Интересно, что это вы делаете в Кармартене на мосту среди бела дня, — сказал он строго, — в парадной куртке и своей старой шляпе?
Дедушка не ответил, он только наклонил к речному ветру лицо, и борода у него плясала и колыхалась, будто он говорит, а он смотрел, как по берегу черепахами ползли рыбаки, неся на себе свои плетеные лодчонки.
Мистер Грифф поднял усеченную эмблему своего ремесла:
— И куда же, интересно, вы собрались с этим старым черным мешком?
Дедушка сказал:
— Я иду в Ллангадок, чтоб меня там похоронили.
И он следил, как лодчонки-панцири тихо соскальзывают на воду, а чайки сокрушаются над полной рыбы водой так же горько, как простонал мистер Прайс:
— Но ты же не умер еще, Дэй Томас!
Дедушка минутку подумал, потом он сказал:
— В Лланстефане лежать нету смысла. В Ллангадоке земля удобней. Сколько хочешь ногами дрыгай — в море не угодишь.
Соседи обступили его. Говорили:
— Вы же не умерли, мистер Томас.
— Зачем вас хоронить?
— Никто не собирается вас хоронить в Лланстефане.
— Поехали домой, мистер Томас.
— Там крепкого пивца выпьете.
— С пирожком.
Но дедушка твердо стоял на мосту, и мешок прижимал к себе, и смотрел на бегущую воду, на небо, как уверенный в своей правоте пророк.
Маленький мальчик на маленьком заднем дворе — невидимый поезд, гуимдонкский скорый — прошуршал до сияния начищенными колесами по крошкам для птиц, по вчерашнему снегу, выпустил бледный и тоненький, как дыхание, дымок в серое холодное небо, посвистел под бельевой веревкой, смел собачью миску у остановки Прачечная и шипел, затихая, вращая поршнями, пока няня опускала жердину, отшпиливала пляшущие одежки, выказывала под мышками темные пятна и кричала через забор:
— Эдит, а Эдит, поди-ка сюда, что скажу.
Эдит влезла на две бочки по ту сторону забора, крикнула в ответ:
— Здесь я, Патриция, — и её голова подскочила над битым стеклом.
Он дал задний ход, отвел своего «Летучего Валлийца» от прачечной к угольной яме, изо всех сил нажал на тормоз — на молоток у себя в кармане. Служители в мундирах повыскакивали с горючим; он сказал пару слов откозырявшему кочегару, и поезд снова двинулся в путь, обогнул Китайскую Стену в колючках против кошек, прошел заледенелыми реками водостоков и помчал по туннелю в угольной тьме. Но сквозь взвизги и сквозь свистки он все время внимательно слушал, как Патриция и соседкина, миссис Льюис, служанка болтали, когда им полагалось работать, и его маму обзывали миссис Тэ и грубо говорили про миссис Лэ.
Патриция сказала:
— Миссис Тэ до шести не придет.
А соседская Эдит ответила:
— Старуха моя, миссис Лэ, на Низы подалась, мистера Роберта вызволять.