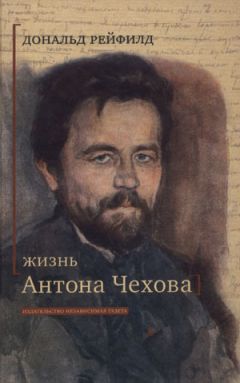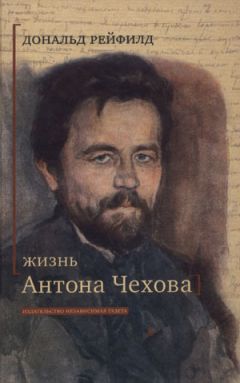Невозможность заниматься лечебной практикой явилась для Чехова большим ударом. Что он был за врач, я не знаю [Моэм сам был врачом]. После окончания университетского курса Чехов проработал в клинике не более трех месяцев, и методы лечения применял не особенно тонкие. Однако, как человек со здравым смыслом и даром сочувствия, он, предоставляя свободу природе больного, полагает Моэм, приносил не меньше пользы, чем иные высокообразованные медики. Он консультировал Толстого, хотя тот недолюбливал врачей; Пешкова-Горького, Левитана. Богатый опыт давал свои плоды. Есть основания думать, что медицинская школа вообще идет писателям на пользу. Приобретается бесценное знание человеческой природы. Медик знает о человеке все самое худшее и самое лучшее. Когда человек болен и испуган, он сбрасывает маску, которую привык носить здоровый. И врач видит людей такими, как они есть на самом деле — эгоистичными, жестокими, жадными, малодушными; но в то же время — храбрыми, самоотверженными, добрыми и благородными. И, преклоняясь перед их достоинствами, он прощает им недостатки.
В Ялте Чехов скучал, однако здоровье его поначалу пошло на поправку. У меня [Моэма] не было до сих пор случая упомянуть, что помимо огромного количества рассказов Чехов написал к этому времени две или три пьесы, правда, не имевшие особенного успеха. Льву Толстому они не понравились, и при встрече с Чеховым он жарко зашептал ему на ухо:
— Вам одному скажу, не обижайтесь: вы пишете пьесы даже хуже, чем Шекспир.
Я бы затруднился придумать лучшую похвалу.
На репетициях этих пьес Чехов познакомился с красивой молодой актрисой, которую звали Ольга Леонардовна Книппер. Он полюбил ее и в 1901 году, к неудовольствию женской половины своего семейства, которое он все это время содержал, женился. [Моэм несправедлив — Мария Чехова не была содержанкой, она добровольно посвятила свою жизнь брату, не вышла замуж за полюбившего ее Левитана, вела хозяйство, исполняла обязанности секретаря. Отношения с Ольгой у нее поначалу не сложились. ] Ольга была творческой натурой; условились, что она по-прежнему будет играть в театре, и супруги бывали вместе, только когда Чехов приезжал в Москву, чтобы повидаться с ней, или же когда она бывала свободна от спектаклей и ненадолго ездила к нему в Ялту. Нормальную семейную жизнь наладить не удавалось. Даже в редкие периоды пребывания Чехова в Москве Ольга не могла уделить ему достаточно времени.
Бунин вспоминал:
«Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами:
— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик? Ну конечно, он с вами не скучал.
Я быстро вставал и прощался».
Сохранились письма Чехова к ней, нежные и трогательные. «Здравствуйте, последняя страница мой жизни!»
Улучшение здоровья Чехова продолжалось недолго, вскоре ему стало совсем плохо. Он сильно кашлял, не мог спать. К то му же к его большому огорчению, у Ольги случился выкидыш. Настроение было паршивое. Ольга давно склоняла Чехова написать легкую комедию, этого, по ее мнению, требовала публика, и он в конце концов, главным образом, видимо, чтобы выполнить просьбу жены, приступил к работе над новой пьесой. Придумал название: «Вишневый сад» и обещал Ольге, что напишет для нее выигрышную роль.
«Пишу только по четыре строки в день, — жаловался он, — но и от этого страдаю невыносимо».
Пьесу он все же окончил, и она была поставлена в Москве в начале 1904 года. А в июне Чехов по совету лечащего врача отправляется в Германию на курорт Баденвейлер. Один молодой русский литератор так описывал свою встречу с Чеховым накануне его отъезда:
«На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Чехов.
Никогда не поверил бы, что можно так измениться. А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:
— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.
Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем „умирать“, которое не хотелось бы сейчас повторить.
— Умирать еду, — настоятельно говорил он.
Поклонитесь от меня товарищам вашим… Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю… Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше мы уже не встретимся».
Чехову было уже сорок четыре года. В Баденвейлере ему сделалось хуже. Вечером 1 июля, укладываясь в постель, он настоял на том, чтобы Ольга, весь день просидевшая с ним, пошла прогуляться в парк. Когда она вернулась, Чехов попросил ее спуститься в ресторан поужинать. Но она объяснила ему, что гонг еще не прозвонил. И тогда, чтобы скоротать время ожидания, он стал рассказывать жене смешную историю, описывая необычайно модный курорт, где много толстых банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть англичан и американцев. В один прекрасный вечер в городок прибывает вагон с устрицами, и все они собираются в ресторане, предвкушая утонченный ужин, — а повар, оказывается, сбежал в этом самом вагоне, и никакого ужина не будет. Чехов описывал, какой удар, какое разочарование в жизни испытали эти избалованные люди. Один из них ушел к себе и застрелился. Рассказ получился очень смешной, и Ольга от души смеялась. После ужина она опять поднялась к нему — он спокойно спал.
Но потом ему вдруг стало совсем плохо. Был вызван врач-немец, он делал что мог, безрезультатно, Чехов умирал. Он бредил, вспоминал о каком-то японском матросе, которого видел на Сахалине. Говорил с ним о железнодорожном вагоне с замороженными устрицами. Чехов не хотел, чтобы его тело перевозили в Москву в вагоне с устрицами, но матрос настаивал. Потом он очнулся и сказал этому матросу:
— Я умираю.
Но японский матрос оказался немцем. Врач-немец ничего не понял, хотя что уж тут понимать; пришлось перевести:
— Ich sterbe.
Потом Чехов попросил бокал шампанского, чтобы забыться, облегчить страдания. Шампанского не нашлось, немец, ни на что уже не надеясь, разрешил выпить водки, такой опасной для туберкулезников, — попросту, разрешил выпить отравы. Водки тоже не было, но у хозяина отеля нашлось немного чистого медицинского спирта. Ольга заплакала и налила мужу полную рюмку. Спирт неожиданно хорошо подействовал, пульс восстановился, японский матрос исчез, Чехов уснул. Случилось чудо, в ночь с 1 на 2 июля 1904 года произошел переломный момент в смертельной болезни. Утром дела пошли на поправку, врач-немец удивленно развел руками — этих русских не поймешь, а Чехов, очнувшись, слабо пошутил:
— Что для русского здорово, для немца — смерть.
Что же случилось в эту ночь? Чудесное исцеление или природное, но редчайшее совпадение множества случайных обстоятельств — целебный воздух Баденвейлера, рюмка чистого спирта, бестолковый врач-немец, видение японского матроса? Вот что еще поразительно: в эту же ночь на второе июля четвертого года в Москве умер от туберкулеза друг Чехова, молодой, но уже очень известный русский писатель Алексей Пешков-Горький, «bourevestnik revouluthii» [предвестник революции], как оценивали его современники. У них осталось впечатление, что КТО-ТО в ту ночь стоял перед трудным выбором, разменивал, сомневался — кого оставить, кого забрать, кто здесь нужнее: предвестник революции или земский врач?.. Мистика или совпадение?.. Алексей Пешков так и остался в истории русской литературы молодым романтическим писателем, преждевременно сошедшим в могилу на самом взлете, а Чехов остался жить.
Вообще, чем вызвано столь трепетное отношение интеллигенции к личности Чехова? Безусловно, высочайшим писательским мастерством, — но не только. Я внимательно разглядывал его фотографии. В самом деле, «Чеховых было много». Вот сонный студент с одутловатым лицом, вот простой деревенский парень с голубыми глазами, вот хитрый богатырь, похожий на васнецовского Алешу Поповича, а вот замордованный пациентами земский врач. Поражает, что некоторые портреты молодого Чехова удивительно похожи на Иисуса Христа — худощавый молодой человек с высоким лбом, усами и бородкой, длинными волосами. В Чехове мы ощущаем какую-то высшую тайну, о его миссии в истории человечества ничего не говорилось, — наверное, потому, что слово «миссия» к Чехову мало подходит. Верил ли Чехов в Бога, в потусторонний мир? Кажется, нет. Не верил. Веру в Бога ему в детстве отбил религиозный отец. Но иногда сомневался. Иван Бунин вспоминал, что Чехов «много раз старательно, твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор. Но в другом настроении еще тверже говорил противоположное:
„Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие факт“.»
Смерть, жизнь, бессмертие… Чехов вроде бы допускал возможность двух противоположных решений.