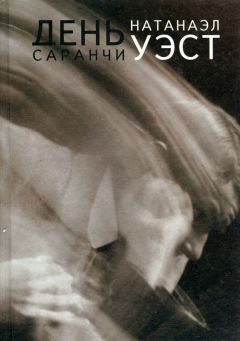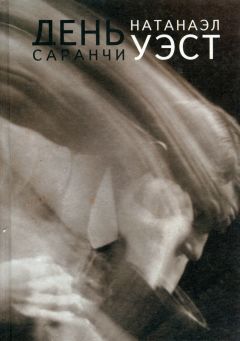— Да плевать мне на ваше искусство! Знаете, почему я написал эту странную историю? Потому что мисс Макгини, моя учительница английского, читает русские романы, а я хочу с ней переспать. Вы случайно журнал не издаете? Не хотите купить у меня эту историю? Мне деньги нужны.
— Нет, сынок, я поэт. Бальсо Снелл, поэт.
— Поэт он! Рассказывай!
— Я бы тебе посоветовал, дружок, побольше бегать. Читай поменьше и играй в бейсбол.
— Не морочьте мне голову. Я знаю одну толстуху — она только поэтам и дает. Когда я ее трахаю, я тоже поэт. Могу прочесть стишок, которым я ее покорил:
Затворница моя!
Толстуха!
Тому, кто покорил
Вершины горные Арраса и Аррата,
Парнасса, Оссы, Пелиона, Иды, Писги,
И даже золотого Пика Пайке[24],
Тебя не покорить.
Недурно, а? Но мне поэзия и искусство осточертели. А что делать? Мне нужны женщины, а поскольку ни купить, ни изнасиловать их я не в состоянии, приходится сочинять им стишки. Если б ты знал, как мне надоело изображать безумие Ван Гога и страсть к путешествиям Гогена ради того, чтобы завоевать сердца этих надутых недотрог. А как мне надоели эти окололитературные ублюдки! Увы, только на них я и могу претендовать… Слушай, Бальсо, за доллар я готов вкратце описать тебе свои взгляды.
Бальсо дал мальчишке доллар в надежде от него избавиться — и получил в ответ небольшой трактат.
Трактат
Вчера, раздумывая, бриться мне или нет, я узнал о смерти своей подруги Саньетт. И решил не бриться.
Сегодня, бреясь, я обратился к своим вчерашним эмоциям. Обратился в том смысле, что стал искать их — в карманах своего халата, в висящей на стене аптечке. Ничего не обнаружив, я продолжал поиски. Куда я только не заглянул. И (сначала, разумеется, с улыбкой) в бездонные недра сострадательности, и в тайники души, и даже за бескрайние горизонты памяти. Увы, как и следовало ожидать, поиски мои закончились ничем. Мои восклицания: «Откройтесь, о врата чувств! Опустошитесь, о фиалы страсти!» — лишь подтвердили полную и окончательную неразрешимость моей задачи.
То, что я не преуспел в поисках, явилось для меня свидетельством моего недюжинного ума. Я (подобно детям, что, играя, становятся на сторону полицейских или разбойников, индейцев или ковбоев) становлюсь на сторону интеллекта против эмоций, рассудка против сердца. И тем не менее я не мог не признать всю ходульность своей позиции (бреясь, молодой человек отмахивается от смерти) и не оставил попыток отыскать эмоции. Я тщательно пересмотрел все свои резоны предаться горю (с Саньетт я прожил без малого два года), однако так ему и не предался.
Мне очень трудно всерьез думать о смерти, поскольку имеются некоторые предвзятые суждения, в свете которых мои мысли могут показаться абсурдными. Каким бы образом я ни рассуждал, я подвергаю устоявшиеся представления критике сентиментального, сатирического и формального толка. Этим суждениям сопутствует и ряд литературных ассоциаций, которые уводят меня еще дальше от истинного чувства. Из-за литературных упражнений признание таких категорий, как Смерть, Любовь, Красота, сделалось невозможным.
Отдав себе отчет в том, что я потерпел неудачу, я несколько раз ухмыльнулся своему отражению в зеркале, пытаясь тем самым скрыть свое поражение. Вспомнив, что накануне смерть Саньетт я использовал как предлог, чтобы не бриться, я громким голосом произнес: «Точно так же и мои друзья воспользуются моей смертью, чтобы не пойти на свидание с нелюбимой девушкой».
Приободрившись от вида своей глумливой физиономии, я представил себе смерть Саньетт. Лежит под одеялом на больничной койке и взывает к матушке Эдди и доктору Куэ[25]: «Я не умру! Мне все лучше и лучше! Я не умру! Воля возобладает над плотью. Я не умру!» На что смерть ей ответит: «А вот и умрешь». И она умерла. Смерть победила жизнь, и ее победой я воспользовался в полной мере.
Неизбежность смерти всегда доставляла мне удовольствие — и не потому, что хочется умереть мне, а потому, что должны умереть все Саньетты. Когда проповедник объяснил королю Франции, что в одном, по крайней мере, сомневаться не приходится — все когда-нибудь умрут, монарх разгневался. Когда смерть возобладала над оптимизмом Саньетт, девушка, я уверен, искренне удивилась. Мысль о том, что Саньетт удивилась, доставляет мне такое же удовольствие, как гнев короля — проповеднику.
Отчасти я недолюбливал Саньетт по той же причине, по какой пессимисты не любят оптимистов, ковбои — индейцев, полицейские — разбойников. Но лишь отчасти. В основном же моя антипатия была сродни той, какую всякий исполнитель питает к своей аудитории. Наши с Саньетт отношения были в точности отношениями актера и зрителя.
Живя со мной, Саньетт относилась ко всем самым моим чудовищным выходкам так же, как зрительный зал относится к самым рискованным трюкам акробата. Ее безразличие приводило меня в такое возбуждение, что в своих «спектаклях» я вел себя все более и более развязно. И то сказать: что такое трагедия на театре всего с одной смертью? Почему не с двумя покойниками? Не с сотней трупов? Исходя из этого я демонстрировал ей самые свои сокровенные органы: сердцем и гениталиями, можно сказать, подпоясывался.
И всякий раз внимательно следил, как она воспримет мое представление — с улыбкой или со слезами. Хоть я и выступал в роли клоуна, клоуном я был трагическим — тут двух мнений быть не может.
Я уже забыл то время, когда отношения с женщиной вспоминались лишь как серия причудливых театральных поз, которые казались мне настолько забавными, что я принимал их, вполне сознавая, насколько они нелепы. Все мои ужимки преследовали тогда только одну цель — привадить самку.
Имей я возможность привлекать к себе женщин физически, моя ненависть к ним не была бы столь велика. Однако я считал необходимым противопоставить мускулам, зубам и волосам своих соперников причудливые образы, тонкие и остроумные наблюдения, нестандартное поведение — Искусство, наконец.
Мой ум, который я так часто выставлял напоказ, есть не что иное, как проявление инстинкта угождать. В этом смысле я чем-то похож на птицу под названием Amblyornis Inornata. Inornata[26], о чем свидетельствует и ее имя, — птица бесцветная и уродливая. В то же время Inornata — кузина Райской птицы. Поскольку великолепное оперение сестры у нее отсутствует, ей приходится овеществлять свое внутреннее оперение. Inornata разводит сад и сооружает дом из цветов, компенсируя тем самым красочность и пестроту своей родственницы. Муж нежно любит свою скромную садовницу, однако ей на просьбу Райской птицы: «Покажи-ка нам свой хвост, дорогая», ответить, увы, нечего. Больше того, если Райская птица в ударе, ей ничего не стоит попросить кузину овеществить несколько внутренних перьев. А впрочем, нельзя же винить Райскую птицу за высокое качество ее хвоста — такой вырос. Бедяжке же Инорнате приходится нести личную ответственность за артистизм своей сестры.
Было время, когда мне думалось, что я и впрямь живу богатой духовной жизнью, — впоследствии я изложил ее с детским восторгом и во всех подробностях. Вскоре, однако, чтобы заинтересовать своих слушателей, я счел необходимым несколько сократить пространные излияния, сделать их, используя все свое воображение, зрелищными. Ах, сколько сил уходит на поиски всего необычного, незатасканного!
Благодаря таким женщинам, как Саньетт, я приобрел привычку неординарно мыслить. Теперь я все превращаю в фантастическое развлечение, я одержим всем из ряда вон выходящим…
Умному человеку не составляет труда смеяться над самим собой, но смех его, если только человек этот проницателен, редко бывает искренним. Будь я Гамлетом или хотя бы клоуном с рвущимся сердцем под разноцветным шутовским нарядом, такая роль была бы для меня приемлемой. Я же считаю необходимым представить тайну чувства в комическом обличье. Я должен смеяться над самим собой, и, если смех этот «горек», я должен смеяться над смехом. Ритуал чувства требует бурлеска, и, вне зависимости от того, удачен бурлеск или нет, смех…
Однажды ночью, когда мы с Саньетт, сняв номер в гостинице, лежали в постели, мне стало вдруг тошно от тех безумных снов, которые я, смеха ради, взялся ей пересказывать. Так тошно, что я стал ее бить. Бил и вспоминал этого странного человека, Джона Раскольникова Джилсона, русского студента. Бил и кричал: «О запор желаний! О понос любви! О жизнь в жизни! О тайна бытия! О Христианская ассоциация молодых женщин! О! О!»
Когда же на ее крики прибежал коридорный, я попытался объяснить причину своего раздражения. Вот что я сказал:
«Сегодня вечером я очень нервничаю. На глазу у меня ячмень, на губе засохшая болячка, на шее прыщ от воротника, еще один прыщ в углу рта, на носу висит соленая сопля. Оттого, что я все время вытираю нос, ноздри у меня воспалены, саднят и болят.