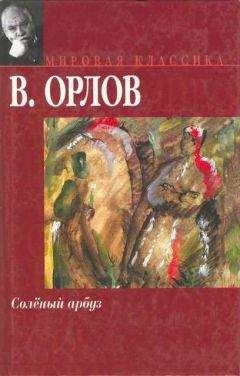Ознакомительная версия.
Лет десять назад, в школе, он изучал физику и теперь вспомнил ее законы. Насчет давления и поверхности. Он накрепко привязал мешок к спине, лег на лед и пополз. Полз метров двадцать или тридцать, пока водичка не кончилась. Потом он пришел в котлопункт, скинул мешок и заснул на столе.
— Мешок все-таки чуть-чуть промок, — сказал Николай, — вот тут, сбоку... Это когда я шлепнулся...
Ольга вытаскивала макароны и упрятывала их в шкаф.
— Можно? — спросил Николай
Он с жадностью грыз макароны. Ольга всплеснула руками и притащила ему хлеб, масло и консервы.
Потом они не видели друг друга полгода, и только в мае, уже в Курагине, Николай подошел к ней на танцах.
Они вместе возвращались домой. Лил дождь, и Николай укрыл ее шинелью.
У Букваря всегда было светло на душе, когда он думал об этой шинели. Он любил думать о ней, об Ольге и Николае. Он любил Николая, Ольгу и эту шинель.
Его всегда удивляло, как могли дать такому человеку, как Николай, унизительное и глупое прозвище Тату-Мату.
А его звали так года полтора назад, сразу же после того, как он приехал из Красноярска в Саяны. Он сам дал повод. То и дело он повторял: «Тату-Мату». Потом заставил себя забыть выражение, облегчавшее ему разговор.
Последний раз «Тату-Мату» прозвучало в клубе маленькой деревушки, пригревшейся под соснами у самого Кизира, за Красным Кордоном и горой Бурлук. Жили там строители, и вот из этой деревушки Николай и выгнал темную личность по кличке Шериф, отнял у него нож и бросил в спину свое последнее «Тату-Мату».
Это было давно, и о случае с Шерифом ходили уже легенды. Потом Николая перевели в Кошурниково, оттуда — в Курагино. Там он стал бригадиром.
Ребята в бригаде умели делать многое. И многого не умели. Николай умел делать все. Поэтому к ребятам он относился с доброй снисходительностью, как мастер к ремесленникам. Все, за что бы он ни брался, получалось красиво. И красивыми были не только результаты его труда, но и сам этот труд: ладные, пластичные и экономные движения его рук и тела.
Руководил он ребятами без лишнего шума, и ребята просто не замечали, что ими руководят. Но они хорошо понимали, что значит для них Николай.
Он был старше их. Три месяца назад ему исполнилось двадцать семь. Фигура его, длинная, с широкими плечами и узкой талией, была юношеской, а лицо — взрослым. Николай вообще был человеком взрослым и серьезным. И вот теперь Ольга стояла в его шинели на берегу Канзыбы.
Ну и что? Просто шинель. Обыкновенная, серая. Такие всем выдают в армии. Только петлички, когда старые износились, мать Николая перешила с дырастой отцовской, отвоевавшей еще в мировую и гражданскую, как память об отце. Николай сначала смеялся, а потом привык.
Обыкновенная... А может быть, и необыкновенная. Для него, Букваря, она стала символом тех принципов, которыми он жил.
— Пятьдесят пять минут, старик, — сказал Леонтьев. — Не так уж плохо.
Букварю хотелось рассказать ребятам про шинель, но им было не до этого. Они курили.
Кешка держал сигарету в уголке рта большим и указательным пальцами, как держал в детстве, когда курил украдкой и прятал окурки в рукаве. Сплевывал он виртуозно и каждый раз на новый пень.
Виталий Леонтьев дымил небрежно, морщился, словно занятие это ему давно надоело, опротивело, пускал к небу пепельно-седые кольца. Кольца поднимались лениво и нехотя, переваливаясь с боку на бок, и, видимо, подниматься вверх им так же надоело, как и Виталию Леонтьеву смотреть на них.
Бульдозер курил жадно, затягивался и кашлял.
Николай сидел на пне и аккуратно стряхивал пепел о раскрошенную пилой кору пня.
Букварю было скучно, а Спиркин морщился. Он всегда высказывался против курения.
— А Ольга там шинель надела, — сказал Букварь Николаю, — выкупалась и надела.
— Ага... Хорошо... — машинально сказал Николай.
— На первое будут щи, потом картошка и компот...
Николай молча кивнул, и Букварь, неудовлетворенный, отошел от него. Начинать разговор с Кешкой не имело никакого смысла, и он подошел к Леонтьеву.
— Пришел я туда, — сказал Букварь, — а Ольга стоит в шинели...
— Ну и что? — спросил Леонтьев.
—Как что? — удивился Букварь. — Стоит в шинели...
— Стоит в шинели. Ну и что?
Букварь обиделся, взял топор и пошел, посвистывая и сшибая зеленые хрустящие верхушки высоких растений, пахнущих мятой.
Крокодилы бывают разные.
Из каждого крокодила можно сделать самодовольный профессорский портфель. Каждый крокодил, когда хочет, плачет крупными неискренними слезами. Тем не менее крокодилы бывают разные.
Кешка разбирался не только в верблюдах. Он многое знал и о крокодилах. Его вынудила к этому симпатичная блондинка Люба, работавшая в абаканской читальне. Попытка познакомиться с ней обошлась Кешке дорого. Семь вечеров просидел он в читальне, и каждый раз блондинка подсовывала ему массивный двадцать третий том Большой Советской Энциклопедии «Корзинка — Кукунор». Этим томом у них на мясокомбинате можно было запросто забивать крупный рогатый скот.
Кешка старательно читал его и с тех пор стал разбираться в крокодилах.
Так вот, крокодилы бывают большие и маленькие, сонные и шустрые, нахальные и миролюбивые. Самые разные.
Прораб Мотовилов — тоже крокодил. Это Кешке ясно. Неважно, что у него есть усы. Просто это такая особая разновидность крокодила, еще не описанная в энциклопедии.
Сегодня он говорит одно, завтра другое.
Утром Мотовилов приехал давать ценные указания.
Он не спешил. Словно у него в Курагине и у сонной Ирбы не было никаких дел. Он хвалил места у Канзыбы, шутил с Ольгой, усаживался на свежие пни, щурился на солнце и посасывал мундштук. Этот мундштук всем уже надоел. Мундштук был дешевый, желтый, из какой-то ерунды, похожей на янтарь. Мундштук лениво двигался в вялых губах Мотовилова. Он появился во рту Мотовилова полгода назад, когда прораб бросил курить. То ли у него была такая железная воля, то ли он опасался за больные легкие, из-за которых и приехал в Саяны, на горный климат, но так или иначе, а курить он бросил. Купил мундштук и стал сосать его.
Кешка смотрел на жидкие, светлые, с рыжинкой усы и думал про крокодилов.
Кешке было смешно. Мотовилов все тянул и тянул, а ребята прекрасно понимали, что он приехал их уговаривать.
Уже не первый раз их уговаривали. Сначала их — трактористов, электриков, экскаваторщиков, шоферов — уговорили стать плотниками. Стали. Раз стройке нужно. Потом уговорили податься сюда, на Канзыбу. Рубить лес. Раз нужно — подались. Что теперь?
— Я вон на той сопке, где камни, дачу бы построил, — мечтательно произнес Мотовилов, — с террасой, мансардой там...
Кешка уселся на землю и сказал:
— Ну, ладно, Игнатьич, надоело. Валяй, уговаривай.
— Да? — удивленно спросил Мотовилов.
Кешка бесцеремонно обращался с начальством, и это всегда сходило ему с рук. Мотовилов начал копаться в сумке. Сумка у него была из какого-то черного пупырчатого заменителя кожи, на зеленом ремне и походила на сумку почтальона. Мотовилов выволок из нее сложенный вчетверо чертеж, белый носовой платок и бутерброд с маслом и котлетой, завернутый в обрывок газеты. Осмотрел бутерброд и поворчал. Потом развернул чертеж.
— Этого еще не хватало! Масло, что ли...
На чертеже было крупное масляное пятно. Палец Мотовилова тыкался по черным линиям, тонким и жирным, около этого пятна, губы его пытались что-то шептать, помогая прорабу соображать, но им мешал мундштук.
— А чего тут уговаривать, — сказал Мотовилов, — просто так надо... Отсюда и досюда...
Кешка следил за его морщинистым пальцем и понял все.
Но все-таки спросил простовато:
— До этого пятна, что ли?
— При чем тут пятно? — взорвался Мотовилов. — От Заячьего лога и до сопки... Просеку... За три дня...
Николай присвистнул и улыбнулся. Монументальный Спиркин покачал головой. Ресницы Букваря поднялись и захлопали. Бульдозер покраснел от возмущения. Кешка хохотал. Только Виталий Леонтьев похаживал спокойно, словно считал задание прораба самым обыкновенным.
— Выложил наконец-то! — хохотал Кешка. — За три дня!.. За три!..
Мундштук задергался под жидкими усами. Мотовилов вытащил его изо рта и стал объяснять, почему так важно пробить эту просеку именно за три дня.
С Печоры прибыла новая мехколонна. Ей уже отдали часть домов в Кошурникове. Через пять дней она начнет сыпать насыпь до этой самой сопки. До Заячьего лога рубит бригада Воротникова. Им осталось немного. Через три дня все эти столетние кедрики и сосенки должны лежать на земле до самой Бурундучьей пади, что перед сопкой. Еще два дня нужны на трелевку.
Иначе срываются важные сроки, перечеркиваются обязательства, за которые проголосовали все они в разукрашенном кумачом зале.
Ознакомительная версия.