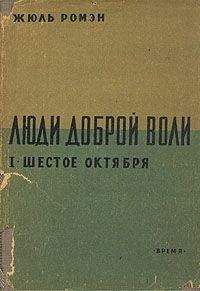Кланрикар слегка ударяет линейкой по кафедре. Начался второй урок. Уже потеряно три минуты. Кланрикар оглядывает свой класс. И нюхает его тоже. Пятьдесят четыре ребенка из народа издают не запах стойла, теплый и почти веселый; от них несет скорее кисловатым, мускусовым запахом зверинца, как от маленьких грустных животных. Воздух обновляется только через два высоко прорезанных оконца. Распахнуть их нельзя, потому что сегодня утром уже слишком свежо. Никто из этих малышей не стал бы жаловаться, быть может. Но некоторые из них побледнели бы еще больше. А они достаточно бледны и без того. Другие спрятали бы свои голые коленки под передник. Вот этот, на первой скамейке, у которого такие красивые синие глаза и который покашливает так, что сжимается сердце, поглядел бы на него, не в знак неудовольствия, а как бы извиняясь за свою зябкость.
Кланрикар с тревогой задается вопросом, любит ли он свою профессию. Этих детей он во всяком случае любит. Почему? Потому что многие из них несчастны. Потому что и они его любят. Потому что, не будучи лучше взрослых, они еще не безнадежны. И своего мира, мира детей, не осудили.
Кланрикар сам удивляется тому, сколько горечи, отчаяния в этих мыслях. Не узнает сам себя. Это его вывели из равновесия утренние новости. Он вдруг ощутил вероятность катастрофы. Ему следовало бы ощущать ее раньше. Не настолько уж хуже сегодняшние вести, чем вчерашние. И не нужно было особой прозорливости, чтобы предвидеть случившееся. Но так уж устроен человек.
Бедный класс! Как бесполезно, пожалуй, приступать к уроку арифметики. Единственное, что надо бы сделать немедленно, это заговорить о событиях. Они бы не поняли? Как знать! Кланрикар уверен, что стоит ему постараться — и он своему классу объяснит что угодно, какую угодно важную вещь. Он своим классом владеет в любую минуту; даже вот этим, которым он руководит только первые пять дней. Он способен улавливать самые мимолетные реакции без всякой задержки и сообразовываться с ними. Если Кланрикар что-либо обдумывает для своего класса, так, чтобы оно вошло в его класс, уложилось мгновенно в пятидесяти лохматых головках, то стоит ему пожелать — и сразу же он найдет такие слова, интонации, обороты речи, что никто уже не шелохнется, и класс явно будет думать то, что он захочет.
Что сказал бы на это Сампэйр? Что советует ему отсутствующий учитель, о котором Кланрикар любит повторять себе со своего рода добровольным фанатизмом, что он всегда прав, что он живой устав поведения?
Сампэйр полагает, что надо очень добросовестно относиться к своим обязанностям. А обязанность преподавателя не заключается в том, чтобы излагать детям дорогие ему идеи. Сампэйр не одобряет непосредственной пропаганды, видя в ней покушение на чистоту знания, а также — в одно и то же время — злоупотребление доверием и недостаток его.
По его мнению, преподавать надо то, в чем ты уверен, в отношении же всего остального пусть излучаются идеи, пусть установится вокруг тебя, так сказать, идеальная атмосфера и безмолвно наставляет умы.
Но Сампэйр только в общем дает такой совет. Он не имеет в виду некоторых торжественных обстоятельств…
— Дети…
Кланрикар непроизвольно заговорил тем тоном, от которого дети становятся внимательными и готовыми к тому, что они будут думать и что не от них исходит, а от этого человека, стоящего там, между черной доской и залитым солнечными лучами окном.
— Дети! Мне надо вам сказать одну вещь. Не знаю, будут ли об этом в вашем присутствии говорить родители. Недавно мы с вами рассматривали карту Европы, вот эту…
(Он достает ее из угла и вешает на два гвоздя возле черной доски, перед детьми.)
Вы помните: Балканы — здесь; Болгария, Сербия, Турция, не так ли? Так вот, вероятно, разгорится война вот здесь, между Болгарией и Турцией. А все правительства Европы так тесно связаны между собою договорами о союзах, более или менее тайными соглашениями, обещаниями, что война, начавшись там, распространится, весьма вероятно, на всю Европу! Вот и все. Говорю я вам это не для того, чтобы вас пугать. Вы большие мальчики. Но надо вам это знать. А теперь приступим к уроку арифметики.
Кланрикар ничего не прибавляет. Он говорил самым простым тоном, не искал эффектов. Ничего как будто не подчеркивал. Эти малыши не знают его взглядов. У него еще не было повода дать им почувствовать, как он смотрит на мир и войну, на правительства, на дипломатию, на ход человеческих дел. Но так было сильно волнение, побудившее его говорить, стольким мыслям отвечало это немногое, сказанное им, что детям вдруг представилась чернеющая вдали грозной тучей война, кружащаяся, расползающаяся во все стороны, как удушливый дым. Блестящие сражения, о которых им говорили на других уроках, портреты знаменитых генералов на обложках тетрадок, звуки трубы на крепостных валах, опьянение, знакомое им по игре в солдаты, вся эта фантасмагория исчезла. Даже слово звучит по-новому: война. Господин Кланрикар — первый человек, о ней заговоривший с ними. «Правительства». Их они видят тоже. Они не любят их.
Кланрикар почувствовал себя легче. На миг волнение оставило его. Он чуть ли не готов смеяться над собою. Вот как забежал вперед.
Как нам вести себя? У меня бы терпенья хватило. Его у событий не хватает.
Воспитывать молодое поколение? А если все сразу развалится?
«Надо мне непременно повидаться днем с Сампэйром. Я это устрою».
Он пишет цифры на доске. Завидует священнику, который сказал бы на его месте:
«Дети, помолимся богу, чтобы он помог нам в этом великом испытании».
V
ХЛОПОТЫ ГОСПОЖИ МАЙКОТЭН
На улице Компан г-жа Майкотэн хлопочет по хозяйству. Каждый день это для нее главный повод для моциона, потому что из дому она выходит редко, а если даже ей случается выйти, то шагает она так медленно, останавливается так часто, что для всей улицы является примером спокойствия.
Дома же она, напротив, суетится. Два часа подряд семенит по квартире. Проходит через все комнаты, чтобы выбросить в окно три соринки. Открывает и закрывает кухонный кран. Спускает грязную воду, чистит раковину; пачкает ее снова через пять минут и еще раз скоблит.
По правде говоря, она суетится без толку и теряет много времени. Двенадцать лет тому назад, когда семья здесь поселилась, г-жа Майкотэн могла бы посвятить несколько недель на то, чтобы понять план квартиры, размещение мебели, расстояние между предметами обстановки, рассчитать взаимоположение утвари и мелких вещей, время на переходы между ними и средства сбережения труда. Но задолго до того, как она стала разбираться в первоначальном устройстве, которым больше ее занимались муж, старший сын и дочь, у нее завелась привычка бегать взад и вперед и машинально повторять некоторые движения. Через двенадцать лет эти приемы работы не имеют уже никаких шансов на улучшение.
Квартира в первом этаже состоит из трех комнат и кухни. Только столовая выходит окнами на улицу. Площадь ее — три метра пятьдесят на три двадцать при высоте потолка два метра семьдесят. Один из углов занят старой фаянсовой печью под нишей. Но печь неисправна. И пред нею поставили круглую печурку на трех ножках, от которой труба проложена к дымоходу в верхнюю часть ниши.
Ниша и плинтусы выкрашены в шоколадный цвет. На обоях желтого тона исполнены в шахматном порядке два рисунка: стилизованная цветочная ваза и рог изобилия. Буфет — дубовый, из двух частей, разъединенных стойкой с колонками. Верхние створки застеклены, нижние — сплошные, и в дереве вырезаны головы двух мушкетеров, глядящих друг на друга. Надо заметить, что у них плюмаж на шляпах сделан тонко. Впрочем, он образует чрезмерный и ломкий выступ, о который почти каждый день цепляется пыльная тряпка г-жи Майкотэн. Как-то даже она потянула слишком сильно и один завиток плюмажа, один из самых красивых, отломался. Эдмонд, старший сын, человек аккуратный, любит этот буфет и очень раскричался в тот вечер, когда заметил поломку. Он потребовал, чтобы ему дали отскочивший кусок. Мать не могла ответить, где он. Стали ползать по паркету. Заглядывали под буфет. Водили по этому темному промежутку крюками палок, ручками зонтиков. Но извлекли оттуда только толстые комья пыли и стеснялись на них смотреть, потому что они как бы опровергали хорошо всем известные претензии г-жи Майкотэн на чистоту. Наконец, кому-то пришло в голову порыться в мусорном ящике. Там, по счастью, нашелся обломок. Старший сын приклеил его секкотином, предварительно нагрев места склейки, согласно инструкции, помещенной на тюбике. С тех пор г-жа Майкотэн, производя уборку и приступая к обметанию мушкетеров, невольно всякий раз вспоминает тот суматошный вечер с его волнениями и неприятностями. Но она не из тех женщин, которые предпочли бы ради упрощения жизни простой буфет. Лучше уж потрудиться немного, но жить среди красивых вещей. Конечно, красивые вещи хрупки. Когда, например, у старых жителей квартала видишь вазы, купленные задолго до войны 70 года, и еще другие, более старинные, по наследству к ним перешедшие, а между тем целехонькие, без единой трещинки, то молодые люди даже не представляют себе, какая это заслуга. В возрасте же г-жи Майкотэн лучше ценишь такую заботливость.