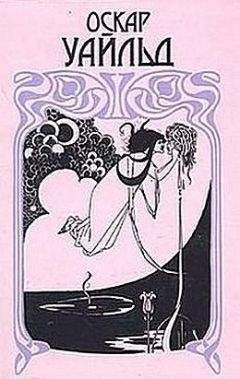А теперь позвольте прочесть пассаж, где, мне кажется, весь вопрос разъяснен с необходимой полнотой. «Но так было не всегда. Незачем ссылаться на поэтов, ибо они, за несчастливым исключением Вордсворта, всегда были верны своей высокой миссии и всеми признаются решительно непригодными в качестве вещателей истины. Однако вспомним и другое — Геродота, который, вопреки мелким и низким посягательствам современных педантов, ищущих подтверждения фактам, излагаемым в его истории, может быть по праву назван Отцом Лжи; дошедшие до нас речи Цицерона и биографии Светония; Тацита в лучших его сочинениях; «Естественную историю» Плиния, Ганнона и его «Перипла»; все ранние хроники; жизнеописания святых; Фруассара и сэра Томаса Мэлори; путешествия Марко Поло; Олафа Магнуса, и Альдрованда, и Конрада Ликосфения с его великолепным «Prodiglorum et Ostentorum Chronicon; автобиографию Бенвенуто Челлини; мемуары Казаковы; «Историю чумы» Дефо; Босуэллову «Жизнь Джонсона»; наполеоновские приказы; наконец, произведения нашего Карлейла, чья «Французская революция» представляет собой один из самых очаровательных исторических романов из всех, когда-либо написанных, — вспомним обо всем этом, чтобы удостовериться, что истинные события здесь повсюду лишь играют подобающую подчиненную роль, либо ими вовсе пренебрегают, так как они невыразительны. Теперь же все изменилось. Истинным событиям не просто принадлежит главное место в историях, но они уже посягают и на область Фантазии, они вторглись в царство Романтики. Везде распознается их леденящее дыхание. Они заставляют нас сделаться вульгарными. Грубый торгашеский дух Америки, ее плоский материализм, равнодушие к поэтической стороне бытия, скудость воображения и отсутствие высоких недостижимых идеалов — все это целиком и полностью результат того, что своим национальным героем страна признала человека, который, по собственному его признанию, был неспособен ко лжи, и не будет преувеличением сказать, что рассказ о Джордже Вашингтоне и срубленной вишенке причинил этой стране больше вреда, причем за сравнительно недолгий срок, чем любая иная моральная притча в литературе всего мира».
Сайрил. Ну, знаете ли!
Вивиэн. Уверяю вас, дело обстоит именно так, и самое забавное, что та история про вишенку — чистейшая выдумка. Не думайте, однако, что я уж совсем мрачно смотрю на будущее искусств в Америке или у нас дома. Вот слушайте:
«У нас нет ни тени сомнения, что еще до того, как завершится лот век, должна произойти какая-то перемена. Наскучив нудными благодетельными поучениями людей, не обладающих ни остроумием, потребным для преувеличений, ни одаренностью, необходимой для романтического, устав от интеллектуалов, погруженных в воспоминания, всегда основанные на пережитом ими самими, и в размышления, вечно ограниченные пределами возможного, чтобы любой присутствующий при этом филистер имел возможность их поправить, коли ему придет такое желание, Общество рано или поздно должно вернуться под опеку своего былого лидера, каковым является просвещенный и покоряющий смелостью фантазии лжец. Кто он был, тот выдумщик, который, и не думая отправляться на охоту со всеми ее грубыми неизбежностями, под вечер рассказывал своим пораженным собратьям по пещере, как он выманил мегатерия, скрывавшегося в каменной, прорезанной жилами яшмы выемке, где сгустилась пурпурная мгла, как сошелся один на один с мамонтом и, прикончив его, взял трофеем его золоченые бивни, — этого мы сказать не можем, как не скажет и никто из современных антропологов, слишком робких, несмотря на всю их хваленую науку. Но к какому бы племени он ни принадлежал, какое бы ни носил имя, именно он был истинным творцом искусства социального общения. Ведь цель лжеца — только зачаровывать, восхищать, доставлять наслаждение. Он тот столп, без которого рухнет цивилизованное общество, и без него обед, пусть и устраиваемый обитателями великолепных особняков, так же тосклив, как лекция в Королевском обществе, или дебаты в собрании авторов, пишущих по контракту, или представление очередной фарсовой комедии Берненда.
Но не одно лишь общество будет приветствовать его с энтузиазмом. Искусство, вырвавшись из темницы реализма, падет к нему в объятия, целуя это прекрасное, неестественное лицо, поскольку знает, что он один владеет великой тайной всех художественных свершений, заключающейся в том, что Истина полностью и абсолютно создается стилем; а Жизнь, эта бедная, предсказуемая, неинтересная человеческая жизнь, устав саму себя повторять, на радость Герберту Спенсеру, высокоученым историкам и составителям статистических таблиц, робко последует за ним и попытается доступными ей простыми, примитивными способами воссоздать какие-то из чудес, о коих он повествует.
Несомненно, всегда найдутся критики, которые, подобно некоему господину из «Сатердей ревью», со всею серьезностью примутся корить рассказывающего об этих чудесах за то, что он неважно знает естественную историю, попытаются оценивать его искрящуюся воображением повесть в согласии со своими критериями, говорящими о полной неспособности что-то вообразить, или в не-годовании примутся вздымать перепачканные чернилами руки, когда некий превосходный джентльмен, никогда не странствовавший дальше тисовой рощи сразу за его садом, напишет захватывающе интересный рассказ о путешествиях, как сэр Джон Мандевилль, или, подобно великому Рэли, познакомит нас с целой всемирной историей, хотя о прошлом он не знает ровным счетом ничего. А чтобы подвести под свои упреки солидное основание, они попытаются укрыться щитом того, кто создал волшебника Просперо, дав ему в помощь Калибана и Ариэля, кто слышал, как тритоны, плавая вокруг коралловых рифов очарованного острова, дуют в свои рожки и как в лесу под Афинами поют, перекликаясь друг с другом, феи, того, кто заставил никогда не живших королей диковинной процессией прошествовать через шотландские пустоши, а Гекату вынудил укрыться в пещере вместе с ее злыми сестрами. Они попробуют взывать к авторитету Шекспира — к нему всегда взывают — и процитируют то скверно написанное место, где сказано про зеркало, которое Искусство держит перед Природой, забыв, что неудачный сей афоризм вложен, не без причины же, в уста Гамлета, чтобы окружающие имели лишнюю возможность убедиться в его полном безумии, когда дело касается искусства».
Сайрил. Уф! Еще сигарету, пожалуйста.
Вивиэн. Дорогой мой, что бы мне ни возражали, речь-то идет всего-навсего о реплике из пьесы, и понятия самого Шекспира об искусстве эта реплика выражает ничуть не больше, чем речи Яго выражают понятия Шекспира о морали. Но позвольте дочитать этот пассаж до конца.
«Искусство находит свое совершенство в самом себе, а не вовне себя. Нельзя о нем судить исходя из внешних по отношению к нему критериев сходства. Оно скорее вуаль, чем зеркало. В нем цветут растения, каких не найти ни в одном лесу, и поют птицы, каких не встретить нигде на земле. Оно созидает и крушит многие миры, и ему ничего не стоит стащить луну с неба, закинув туда свой алый кушак. Его формы «реальней самых истинных людей», оно создает великие архетипы, по отношению к которым все сущее есть лишь незавершенная копия. В Природе для него нет законов, как нет и единства. Оно, если вздумается, способно творить чудеса, а когда оно вызывает из глубин чудищ, они покорно являются. Оно может заставить миндаль зацвести в разгар зимы и наслать снежную бурю на гнущееся под тяжестью спелых колосьев поле. По его велению мороз сковывает серебряным своим пальцем пылающие от зноя уста июня, а из провалов в лидийских горах взлетают крылатые львы. Дриады выглядывают из чащоб, когда оно проходит рядом, и смуглые фавны улыбаются при его приближении. Ему поклоняются боги с ликами, как у ястребов, и кентавры танцуют, следуя за ним шаг в шаг».
Сайрил. Мне понравилось. Очень живописно. Это конец?
Вивиэн. Нет. Есть еще один пассаж, но там обсуждаются вещи чисто практические. Я говорю о способах, при помощи которых можно было бы вернуть к жизни утраченное нами искусство Лжи.
Сайрил. Прежде чем вы мне прочтете это место, хотелось бы вас вот о чем спросить. Что вы подразумеваете, утверждая, что жизнь, «бедная, предсказуемая, неинтересная человеческая жизнь», попытается воспроизвести чудеса искусства? Я могу понять суть ваших возражений против того, чтобы искусство считали зеркалом. Вы находите, что в таком случае талант становится всего лишь потрескавшимся стеклом. Но вы же не станете всерьез утверждать, будто Жизнь подражает Искусству, являясь истинным зеркалом, тогда как Искусство есть реальность?
Вивиэн. Как раз это я и утверждаю. Может показаться парадоксом — а парадоксы вещь всегда опасная, — и тем не менее истина в том, что Жизнь подражает Искусству куда более, нежели Искусство следует за Жизнью. Мы все были в наши дни свидетелями того, как некий особый пленительный тип красоты, созданный и привитый двумя художниками, не лишенными воображения, до того повлиял здесь, в Англии, на Жизнь, что, отправившись ли с частным визитом, присутствуя ли на открытии художественного салона, всякий раз ловишь тот мистический взгляд, который грезился Россетти, и замечаешь длинную линию шеи цвета слоновой кости, причудливый квадратный абрис лица, беспечно спутанные темные волосы, так его восхищавшие, или же поминутно попадаются живые воплощения той строгой девственности, что воспета в «Златых ступенях», губы, схожие с цветком, и тронутая усталостью красота, о коей говорит «Laus Amoris», бледное от страсти лицо, напоминающее Андромеду, тонкие запястья и изящество походки, как у Вивиан из «Сна Мерлина». Вот так всегда и обстояло дело. Выдающийся художник создает некий тип, а Жизнь пытается его скопировать, воспроизвести в популярных формах, точно находчивый издатель. Ни Гольбейн, ни Ван Дейк не могли бы найти в тогдашней Англии того, чем нас одарили их полотна. Свои образы красоты они принесли с собой, Жизнь же со свойственной ей развитой способностью подражания позаботилась о том, чтобы предоставить мастеру нужную модель. Греки, обладавшие безошибочным художественным чутьем, понимали этот закон, оттого и не забывали украсить опочивальню молодоженов статуями Гермеса или Аполлона, чтобы невеста родила детей столь же прекрасных, как творения искусства, стоявшие у нее перед глазами в минуту восторга и боли. Они знали, что Жизнь заимствует у Искусства не только духовное, глубину мысли и переживания, душевные муки и душевный покой, но более того — она перенимает для своих форм те самые линии и краски, которые найдены Искусством, и способна воссоздать величие Фидия, равно как изящество Праксителя. Вот отчего греки не признавали реализм. Они его отвергли из сугубо общественных соображений. Им казалось, что реализм с неизбежностью придает людям уродство, и они были абсолютно правы. Мы пытаемся улучшить условия жизни, заботясь о чистоте воздуха, о солнечном освещении, здоровой воде и строя отвратительные дома, предоставляющие лучшие жилищные условия людям из низших слоев. Но все эти старания способны лишь поднять уровень здравоохранения, они не создают красоты. Для этого потребно Искусство, и настоящие ученики великого художника не те, кто посещают его мастерскую, подражая ему во всем, а те, кто сами становятся подобны его произведениям — пластичным, как во времена греков, или изобразительным, как сейчас; словом, Жизнь — это лучший, это единственный ученик Искусства.