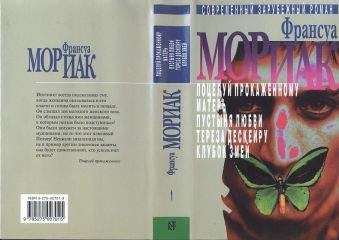Когда в день торжественной раздачи наград гостям, укрывшимся от зноя под сенью пожухлой листвы, было объявлено, что ученик Курреж, безусловно, переведен с отметкой «вполне удовлетворительно», лишь он один знал, что заставило его, при его явной несобранности, приложить столько усилий, чтобы выдержать экзамен. Им завладела навязчивая идея, сделавшая его нечувствительным ко всем придиркам, скоротавшая ему часы заточения среди серых, облупившихся стен школьного двора, — то была идея ухода, бегства из дома однажды на заре летнего дня, бегства по Большой Испанской дороге, которая проходила мимо владения Куррежей и была скорее загромождена, нежели вымощена огромными булыжниками, — память об Императоре, о его пушках и обозах. С каким восторгом предвкушал Раймон каждый шаг, отдалявший его от коллежа и постылой семьи! Существовал уговор: если Раймона переведут в следующий класс, отец и бабушка дадут ему каждый по сто франков; поскольку восемьсот у него уже есть, он таким образом окажется владельцем тысячефранкового билета, благодаря которому, как он надеялся, сможет разъезжать по свету, все увеличивая расстояние между собой и своими. Вот почему он занимался и когда бывал наказан, не обращая внимания на игры товарищей. Иногда он закрывал книгу и с упоением предавался своим мечтам: путь его пролегал через сосновые рощи, где стрекотали кузнечики; устав от дороги, он останавливался в прохладной, сумрачной харчевне на краю деревни без названия; лунный свет будил петухов, и с зарей мальчик, ощущая во рту вкус свежего хлеба, снова пускался в путь. Иногда ему придется ночевать и под стогом сена; какая-нибудь соломинка заслонит от него звезду, а разбудит его влажная рука рассвета...
И все-таки он не сбежал, этот мальчик, которого учителя и родные единодушно считали способным на все; его враги, сами того не ведая, одержали над ним верх: подросток терпит поражение оттого, что дает убедить себя в своем ничтожестве. Случается, что в семнадцать лет и самый необузданный мальчишка невольно проникается тем мнением о себе, какое ему внушают окружающие. Раймон Курреж был красив, но не сомневался в том, что он чудовищный урод и чудовищный грязнуля; не оценив по достоинству благородных черт своего лица, он был убежден, что вызывает у всех одно лишь отвращение. В ужасе от самого себя, он полагал, что никогда не сумеет оправдаться перед людьми за ту неприязнь, которую им внушает. Вот почему желание бежать уступало в нем желанию спрятаться, закрыть лицо, избавиться от презрения посторонних. Этот распущенный мальчишка, чьей руки боялись коснуться воспитанники Конгрегации, так же, как они сами, еще не знал женщины и не считал себя способным понравиться хотя бы последней судомойке. Он стыдился своего тела. Ни родные, ни учителя не сумели разглядеть в его упрямом своеволии и неопрятности жалкую браваду подростка, пытающегося убедить их, что все это он делает нарочно, — бессильный бунт переходного возраста, самоуничижение паче гордости.
В каникулы по окончании класса риторики он был еще совсем не готов к побегу — им овладела безмерная трусость: скованный стыдом, он, как ему казалось, читал презрение в глазах служанки, убиравшей его комнату, не выдерживал взгляда доктора, который тот иногда подолгу задерживал на сыне. Поскольку Баски на весь август уехали в Аркашон, он лишился и привычных бесшабашных игр с детьми, с их гибкими, словно тростинки, телами.
Со дня отъезда Басков г-жа Курреж то и дело повторяла: «Как приятно все-таки наконец-то пожить своей семьей». Таким образом она брала реванш у дочери, заявившей однажды: «Мне и Гастону просто необходимо немножко полечиться одиночеством». На самом деле бедная женщина жила ожиданием ежедневных писем, а стоило только загреметь грому, как она уже видела семейство Басков, в полном составе застигнутое бурей в лодке. Ее дом наполовину обезлюдел, и пустые комнаты наводили на нее тоску. Чего хорошего ждать от такого сына, как Раймон, который целыми днями где-то носится, возвращается весь потный, озлобленный и, как зверь, набрасывается на еду?
— Люди мне говорят: «У вас же есть муж...» Да, как бы не так!
— Вы забываете, деточка, как занят Поль.
— Он сейчас почти не ездит с визитами, мама. Большая часть его пациентов уехала на воды.
— Его пациенты победнее никуда не ездят... А его лаборатория, а больница, а его статьи...
Обиженная супруга качала головой: она знала, что таких дел у доктора всегда найдется предостаточно, что до самой смерти у этого человека не будет и малейшей передышки, когда бы он, забыв о работе, спокойный и беззаботный, смог бы хоть на миг посвятить себя ей. Она не верила, что это возможно: ей было невдомек, что любовь сумеет прорыть себе ход даже сквозь самую заполненную жизнь, что, когда государственного мужа ждет любовница, он останавливает течение мировых событий. Такое неведение избавляло г-жу Курреж от страданий. Пусть она знала только один род любви — когда приходится бегать за недоступным тебе человеком, а он даже не оборачивается в твою сторону, — ее неспособность добиться от него хотя бы участливого взгляда не позволяла ей даже предположить, что с другой женщиной доктор может быть иным. Нет, она не хотела верить, что существует женщина, способная вырвать доктора из этого непостижимого мира, где ведутся наблюдения и статистика, где между двумя стеклышками растираются капли крови и гноя, и ей суждено было жить годы и годы, не ведая, что порой лаборатория по вечерам пустовала и больные напрасно ждали того, кто бы мог принести им облегчение, а он в это самое время предпочитал неподвижно сидеть в полумраке душной плюшевой гостиной, глядя на лежащую перед ним женщину.
Чтобы выкроить посреди работы эти тайные передышки, доктор вынужден был трудиться с двойным напряжением сил, он расчищал путь, стремясь доставить себе наконец эти минуты безмолвного влюбленного созерцания, когда он утолял свое желание неотрывным взглядом. Иногда незадолго до этого вожделенного часа он получал от Марии Кросс записку: сегодня она занята, лицо, от которого она зависит, дает ужин в загородном ресторане, и если в конце своего послания Мария Кросс не назначала ему другой день и час, у доктора пропадала охота жить.
Будто по мановению волшебной палочки, вся его жизнь сразу перестраивалась в угоду этому новому свиданию: как бы он ни был занят, он, словно искусный шахматист, с одного взгляда усматривал возможные комбинации: что нужно переставить, изменить, чтобы минута в минуту очутиться в душной плюшевой гостиной и молча сесть в кресло, глядя на лежащую перед ним женщину. А если она не успевала его предупредить и назначенный час проходил в напрасном ожидании, доктор утешал себя, рассуждая: «Сейчас наше свидание все равно бы уже кончилось, а так это счастье у меня еще впереди». Ему было чем заполнить оставшиеся до встречи дни: лучшим убежищем для него служила лаборатория; здесь он переставал думать о своей любви; занятия наукой как бы отменяли время, поглощая часы и часы, пока не наступала наконец минута, когда можно было переступить порог того дома за Таланской церковью, где жила Мария Кросс.
Терзаемый любовью, доктор в то лето не слишком присматривался к сыну. Посвященный во множество постыдных тайн, он часто говорил: «Мы почему-то думаем, что так называемые "происшествия" нас не касаются, что убийство, самоубийство, бесчестье — это удел других, а вместе с тем... А вместе с тем он так никогда и не узнал, что в те смертельно жаркие августовские дни его сын едва не совершил непоправимое. Раймону хотелось бежать и в то же время хотелось спрятаться, стать невидимкой. Он не осмеливался войти в кафе, в магазин. Ему случалось по десять раз проходить мимо какой-нибудь двери, прежде чем он решался ее отворить. Эта фобия делала бегство для него невозможным, а дома он задыхался. Вечерами ему нередко казалось, что самый простой выход — это смерть, и тогда он выдвигал ящик письменного стола, где отец держал револьвер старого образца; но Богу не было угодно, чтобы мальчик нашел пули. Однажды днем, пройдя через поникшие виноградники, Раймон спустился под уклон выгоревшей лужайки к рыбному садку: он надеялся, что водоросли и мхи оплетут ему ноги своими побегами, что он не сможет выбраться из гнилой воды и под конец глаза и рот его наполнятся тиной; никто его больше не увидит, да и ему не придется больше терпеть на себе чужие взгляды. На поверхности пруда плясала мошкара; лягушки, плюхаясь в воду, как камни, баламутили сумрачный водоем, кишевший таинственной жизнью. Не страх спас в тот день Раймона, а отвращение.
К счастью, он редко оставался один, так как теннисный корт Куррежей привлекал молодежь из соседних усадеб. Г-жа Курреж сетовала на Басков за то, что они ввели ее в расход, заставив построить корт, а сами взяли и укатили. Теперь кортом пользовались чужие люди; юноши в белом, с ракетками в руках, неслышно ступая в своих эспадрильях, появлялись в час сиесты в гостиной, здоровались с дамами и, едва осведомившись, где Раймон, выбегали опять на залитую солнцем площадку, которая вскоре оглашалась их возгласами «play», «out»[2] и звонким смехом.