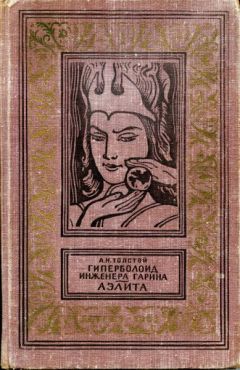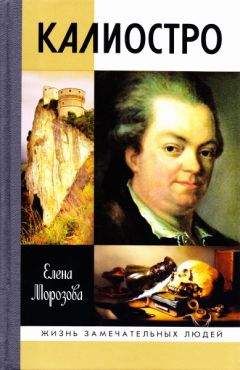Здесь забывали о войне, о политике, шутили и остроумничали, точно мир действительно и не перевернулся кверху ногами, – здесь был райский уголок, оставшийся от огромной разрушенной жизни.
Ольга Андреевна всем говорила «ты», принимала, не благодаря, все, что ей дарили, одевалась в черное, не носила корсета, душилась так, что… словом, здесь был рай.
Василий Петрович крепился дольше других. Заходить – заходил, не один, конечно, но держал себя строго, в карты не играл, а больше посиживал в углу, в кресле, со стаканчиком вина в кулаке. Однажды он даже выразился про «салон» Ольги Андреевны так: «Всякое время и всякая жизнь пускает свои пузыри».
За последнюю же неделю почему-то у него из ума не шла светлая Оленькина головка и прозрачные, равнодушные глаза. Он думал: «А давненько я все-таки туда не заглядывал». Затем ему стал представляться длинный, волнующий и проникновенный разговор большой важности, и, наконец, точно осенило: только такая же, как он, бездомная, опустошенная, тоскующая Оленька может сейчас понять его тоску и сказать какое-то необыкновенное слово. Василий Петрович все еще верил в слова.
Когда он осторожно постучал в дверь и вошел, Ольга Андреевна встретила его чуть-чуть изумленным взглядом. Василий Петрович испытал легкое сердцебиение, поцеловал руку и сел на низенькое плюшевое креслице:
– Вот, забежал на огонек, – принимаете?
– Скажите, Ольга Андреевна, вы много читаете, я вижу книжку, – после нескольких покашливаний в руку проговорил Василий Петрович, потянулся и тронул книгу мизинцем. – Это что-нибудь современное, – стихий
– Нет, роман французский, ерунда какая-то.
– Да, французы умеют писать. Раскрываешь книжку и сразу чувствуешь себя подтянутым, в общества тонкого и умного собеседника, прежде всего признающего твой ум, твой вкус.
Василий Петрович посмотрел на ногти:
– У нас почему-то принято видеть в читателе идиота или дикаря. Я не могу открыть книги, чтобы меня там не начали учить нравственности или простой порядочности. Кончая книжку, я чувствую себя оплеванным. Позвольте! Я тоже культурный человек… И так во всем: писатель считает меня идиотом, народные комиссары едва терпят мое существование… Для родины я, оказывается, враг… Я – враг!..
Он вдруг задышал носом. Разговор, так ловко заведенный об изящной литературе, сорвался.
– В общем, все – более чем скверно, – проговорил он с гримасой.
Ольга Андреевна вздохнула, опустила глаза и из черепаховой коробочки вынула папиросу.
– Одно время я боялась выходить на улицу. А теперь все стало безразлично.
– Третьего дня я вас встретил, Ольга Андреевна, и кланялся, а вы не заметили.
– Я стала очень рассеянна. Устаю ходить, устаю читать. Устала переживать государственные перевороты. Третьего дня где же я была?
– Вы заходили в перчаточный магазин.
– Какие там перчатки! Москва стала запустелая, грязная, и уехать некуда.
– Да, ехать сейчас некуда. И нет хлеба, сахара. Идет чума.
– Боже мой!
– Надвигается. Курить можно?
Ольга Андреевна протянула ему черепаховую коробочку с душистыми и слабыми папиросами:
– Курите. Вы не были па «Итальяночке» в Новой Комедии? На послезавтра у меня два билета. Говорят, – очень славно. Пойдемте?
– Слушаюсь.
Василий Петрович положил ногу на ногу, прищурясь, потрогал бородку.
– Вам не покажется странным, Ольга Андреевна, если я скажу, для чего пришел? Представьте, что я уменьшился ростом, а платье на мне осталось прежним, на большой рост. Вот так я себя сейчас ощущаю. Какое-то странное состояние… Вернее – совсем себя не чувствую…
Он до невозможности сморщился, стараясь быть понятным. Ольга Андреевна с остановившейся улыбкой глядела на него. Василий Петрович сидел в черном сюртуке, в крахмальной тугой рубашке, красный, серьезный, поблескивал очками.
Тогда она внезапно рассмеялась, даже колени ее вздрогнули под шелковым платьем. Василия Петровича бросило в жар.
– Чрезвычайно трудно выразить это, – пробормотал он, – чувство очень сложное.
Ольга Андреевна спросила:
– Хотите чаю?
– Да, пожалуй. С удовольствием.
– Позвоните три раза.
И когда он, потирая ледяные пальцы, вернулся от двери, она оказала:
– Садитесь рядом. Суньте подушку под спину. Рассказывайте.
И она, подобрав ноги, внимательно, исподлобья, стала разглядывать Василия Петровича, затем сняла пушинку с его рукава:
– Почему же вы все-таки ко мне пришли? Вот этого я не пойму.
– Именно к вам, потому что…
– Взяли и решили броситься в омут головой.
Она опять усмехнулась длинной улыбкой. Василий Петрович не ответил. Отвратительный холодок против воли пополз по спине. Стало совестно своих глаз, всей стороны лица, повернутой к Ольге Андреевне. Впору слезть с дивана и уйти, но все тело грузно, неуклюже сидело, придавив пружины. Ни уйти, ни отвернуться. И всего хуже, конечно, было это молчание, подтверждающее самые гнусные предположения.
– Я не хотела вас обидеть, – Ольга Андреевна коснулась его плеча, – простите, что я засмеялась.
– Нет, пожалуйста, отчего же…
– Не сердитесь на меня, голубчик. Говорите все. Я слушаю вас очень внимательно.
Она даже закрыла глаза. Ее лицо стало точно у спящей. Нежная кожа щеки, тонкий, с горбинкою «ос и чуть-чуть приоткрытые для дыхания губы – были совсем рядом, близко и так покойны, – вот взять их в ладони, прижаться поцелуем.
Василий Петрович стиснул челюсти. «Этого еще не хватало! Поцеловать, схватить за плечи, целовать в глаза, в рот, в горлышко… И потом взъерошенным, с кривой улыбочкой, стоять над разрушенной красотой! Утвердить самого себя! Все это бред! Невозможно!»
Упершись кулаками в диван, он поднялся, застегнул сюртук:
– Позвольте откланяться.
– Куда же вы?
Он взглянул на часы:
– У меня заседание. Разрешите зайти как-нибудь в другой раз. Я соберусь с мыслями.
И, не глядя в глаза, он поцеловал руку, извинился несколько раз, обещался зайти в среду – сопровождать Ольгу Андреевну в Новую Комедию, если не помешает какое-нибудь восстание, задел по пути плечом дверь и вышел.
На улице, сдвинув шапку, он долго тер лоб, не в силах прийти в себя от стыда, растерянности, негодования. «Как это все вышло – черт знает как…»
Дома, в углу большого кожаного дивана, где когда-то происходили жаркие споры на общественные темы, Василий Петрович устроил все, что нужно человеку: стакан воды, папиросы, Владимира Соловьева, низенькую лампочку. Занавеси на окнах задернул: с утра было ветрено, и в стекла лепил мокрый снег.
Разумеется, на душе скребло: там, за толстыми шторами, содрогается в предсмертной муке Москва, Россия, весь мир. Страдают добрые и злые, сильные и слабые, и те, кто хотят счастья другим, и те, кто хотят счастья только себе. А здесь, наплевав на все, утверждается человек наедине с Владимиром Соловьевым!
Были, были такие мысли. Но Василий Петрович, пофыркивая, покусывая ноготь, гнал их прочь. Нужна цельность, нужна жестокость! Путь добра бесконечно более жестокий и кровавый, чем путь зла, – в этом пришлось теперь убедиться всем. И, кроме того, в противопоставлении себя миру в такое время Василий Петрович находил что-то трагическое, и роковое, и очень острое. Так ему казалось.
Он надел теплую куртку и теплые высокие туфли; у домашних потребовал покоя. Никого не видеть, затвориться, думать! Прочтя несколько страниц, он отложил книгу, откинулся «диванной спинке и закрыл глаза:
– Бессмертие души. Да. Вот стержень всех дум. Если нет бессмертия, я – случайно возникшая частица космоса, вовлеченная в круговорот вещей, чтобы барахтаться и погибнуть так же бесцельно, как и возникла. А если я – бессмертен? Я – божество среди таких же божеств? Мои страдания и вся бессмыслица нужны мне, и я их благословлю. И благословлю еще потому, что не могу уклониться от них. Когда страдания становятся невыносимыми и бессмысленными, – я задумываюсь о бессмертии души; мне нужно во что бы то ни стало, чтобы она была бессмертна.
Василий Петрович тонко усмехнулся: «Нет, голубчик, на мякине не проведешь. Верю в бессмертие? – не знаю. Верю в бессмыслицу? – не знаю. В себя верю? – не знаю. То-то и оно-то…»
Но честность, как и всегда бывает с честностью, не дала нравственного успокоения. Одной ее оказалось мало. Василий Петрович курил папиросы, и ему начинало казаться, что путь размышлении – почтенный, но а нужных случаях жизни – плохой путь.
Далее, несмотря на запрещение, в кабинет проникла Софья Ивановна. Покраснев, она проговорила осторожным голосом:
– Я тебе помешала, прости, – на минутку отвлеку. У меня, Василий Петрович, вышли все деньги. Предлагают в домовом комитете черного мяса. Я уж не знаю, как же…
– У меня денег нет.
– А три тысячи?
– Их невозможно получить, ты же знаешь. Иди, Соня, я занят.
Софья Ивановна ушла. Она уходила совсем неслышно, только раз скрипнула кухонной дверью, чтобы сказать, что домового мяса брать не будем, и где-то села и затихла; и все же Василий Петрович чувствовал через три комнаты, как она покорно моргает ресницами. Он швырнул куртку, оделся и вышел из дому, думая: «Умолял хоть несколько дней покоя. Потом для вас буду вагоны выгружать, лед колоть, в швейцары поступлю».