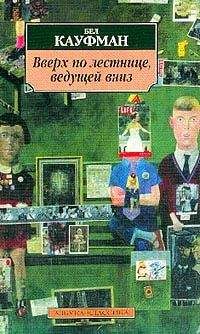– Поистине, дорогая птица, вы занялись отличным ремеслом, – сказала, улыбаясь, царевна, горевшая желанием отправиться в путь, но не дерзавшая высказать это.
– Я служу моему другу, – отвечала птица, – и величайшее благо, после счастья любить вас, это – способствовать вашей любви.
Формозанта никак не могла прийти в себя: ей казалось, что она парит над землей. Все, чему она в течение дня была свидетельницей, все, что видела сейчас, все, что слышала, а главное, все, что ощущала в своем сердце, дарило ей упоение, далеко превосходящее то, которое испытывают взысканные судьбою мусульмане, когда, освобожденные от земных уз, они зрят себя на девятом небе, в объятиях гурий, и их опьяняет и овевает слава и небесное блаженство.
Всю ночь царевна провела в расспросах об Амазане. Она теперь называла его не иначе, как «мой пастушок», – прозвище, которое с тех пор у многих народов стало тождественно со словом «возлюбленный». То она хотела знать, не было ли у Амазана других возлюбленных. «Нет», – отвечала птица, и Формозанта чувствовала себя на вершине счастья. То она допытывалась, какой образ жизни он ведет, и с восторгом узнавала, что он занят добрыми делами, содействует развитию искусств, старается проникнуть в тайны природы, стремится к самоусовершенствованию. То она спрашивала, почему, если душа птицы сродни душе ее возлюбленного, птица прожила двадцать восемь тысяч лет, а возлюбленный – лишь восемнадцать-девятнадцать? Она задавала сотни подобных вопросов, на которые птица отвечала сдержанно, чем еще сильнее возбуждала ее любопытство. Наконец сон смежил их очи и отдал Формозанту во власть ниспосылаемых богами сладостных сновидений, которые живостью своей превосходят порою самое действительность и дать истолкование которых не всегда может даже халдейская философия.
Формозанта проснулась очень поздно. В опочивальне еще царил полумрак, когда отец ее вошел к ней. Птица встретила его величество с изысканной почтительностью, вышла ему навстречу, захлопала крыльями, изогнула шею и затем снова взлетела на апельсинное дерево. Царь присел на ложе дочери, еще больше похорошевшей от приятных сновидений. Коснувшись длинной бородой ее прекрасного лица и дважды поцеловав, царь сказал:
– Дорогая дочь моя, вопреки моим надеждам, вчера вы не смогли обрести себе супруга. Однако вы должны выйти замуж, этого требует благо государства. Я советовался с оракулом, который, как вам известно, никогда не лжет и руководит всеми моими поступками. Он приказал мне отправить вас странствовать. Вам необходимо совершить путешествие.
– Ах, – воскликнула царевна, – конечно, к гангаридам!
Но как только у нее вырвались эти необдуманные слова, она спохватилась, что сболтнула лишнее. Царь, не имевший никакого понятия о географии, спросил ее, кто такие эти гангариды. Формозанта легко нашла отговорку. Царь сообщил ей, что она должна совершить паломничество, что он уже назначил людей в ее свиту. Это – старейшина Государственного совета, верховный жрец, придворная дама, врач, аптекарь и ее птица, а также необходимое ей число слуг. Формозанта, которая никогда не покидала дворца своего царственного родителя и вплоть до дня празднества в честь трех владык и Амазана вела жизнь хотя и полную обманчивого веселья, но однообразную и подчиненную пышному придворному этикету, была в восторге от предстоящего ей паломничества. «Кто знает, – думала она, – быть может, боги внушат моему дорогому гангариду мысль тоже предпринять паломничество к тому же храму и мне улыбнется счастье повстречать паломника?» Она нежно поблагодарила отца, уверив его, что всегда чувствовала тайное влечение к божеству, поклониться которому ее посылают.
Царь дал в честь гостей изысканный обед, на котором присутствовали только мужчины. Выбор приглашенных оказался неудачным: цари, князья, министры, священники – все завидовали друг другу, все взвешивали каждое свое слово, все были в тягость своим соседям и самим себе. Трапеза протекала уныло, невзирая на обильные возлияния. Обе царевны не выходили из своих покоев, занятые предотъездными хлопотами. Каждая пообедала в скромном уединении. Затем Формозанта отправилась на прогулку в дворцовый парк, взяв с собой свою дорогую птицу; та, чтобы ее позабавить, перелетала с дерева на дерево, распустив свой великолепный хвост и блистая божественным оперением.
Египетский фараон, разгоряченный вином, чтобы не сказать пьяный, приказал своему пажу подать ему лук и стрелы. По правде говоря, этот правитель был самым неловким стрелком в своем государстве. Когда он стрелял в цель, самым безопасным местом было то, куда он метил. Но дивная птица, такая же быстрая в полете, как стрела, метнулась под выстрел и упала, истекая кровью, на руки Формозанте. Фараон, глупо засмеявшись, удалился в свои покои. Царевна пронзительно закричала, зарыдала, стала раздирать ногтями себе лицо и грудь. Птица, умирая, прошептала:
– Сожгите меня и непременно отвезите мой пепел в Счастливую Аравию, к востоку от города Адема, или Эдема, там положите его на солнце, на небольшой костер из гвоздичного и коричного деревьев.
И она испустила дух.
Долго лежала Формозанта в беспамятстве, а когда пришла в себя, залилась снова слезами.
Отец разделял ее скорбь и проклинал фараона, не сомневаясь, что это происшествие предвещает мрачное будущее. Он немедленно отправился к оракулу, дабы испросить у него совета. Оракул сказал: «Все вместе – смерть и жизнь, измена и постоянство, утрата и выигрыш, бедствие и счастье». Ни царь, ни члены Совета ничего не поняли, но все же владыка был доволен, что совершил обряд благочестия.
Пока он вопрошал оракула, его безутешная дочь, приказав исполнить предсмертную волю птицы, решила увезти ее пепел в Аравию, хотя бы и рискуя жизнью. Птицу вместе с апельсинным деревом, на котором та ночевала, завернули в ткань из горного льна и сожгли. Царевна собрала пепел в золотую урну, украшенную карбункулами и брильянтами, извлеченными из львиной пасти. Ах, если бы она могла вместо исполнения этого печального похоронного обряда заживо сжечь ненавистного египетского фараона! Это было ее единственное желание. В порыве досады она приказала убить двух его крокодилов, обоих гиппопотамов, обеих зебр, обеих крыс и бросить в Евфрат обе его мумии; попадись ей в руки бык Апис, она и его не пощадила бы.
Египетский фараон, вне себя от подобного оскорбления, немедленно покинул страну, намереваясь ускорить прибытие своей трехсоттысячной армии. Индийский царь, видя, что его союзник отбыл, в тот же день последовал его примеру, твердо решив присоединить триста тысяч своих воинов к египетскому войску. Царь скифов, вместе с Алдеей, тайно уехал ночью, непреклонно решив возвратиться во главе трехсоттысячной армии скифов, чтобы отвоевать у узурпатора вавилонское царство, принадлежащее Алдее, как единственной представительнице старшей ветви. В свою очередь, прекрасная Формозанта в три часа утра пустилась в путь, сопровождаемая свитой и утешаясь мыслью, что едет в Аравию исполнить последнюю волю своей птицы и что, быть может, милость бессмертных богов вернет ей дорогого Амазана, без которого жизнь казалась ей теперь невозможной.
Итак, царь вавилонский, проснувшись, оказался в одиночестве.
– Конец празднествам! – воскликнул он. – Но какую странную пустоту ощущаешь в душе после всего этого шума и суеты! – Однако он воспылал поистине царским гневом, когда узнал о похищении Алдеи. Он приказал разбудить всех министров и созвать Совет. В ожидании их прихода он не преминул обратиться к оракулу, но не добился от него иных слов, кроме тех, которые стали потом знамениты во всем мире: «Если девушек не выдают замуж, они сами находят себе мужей».
Немедленно отдан был приказ трехсоттысячной армии выступить в поход против скифского царя. И вот вспыхнула одна из самых ужасных войн, вызванная самым блистательным из всех возможных празднеств.
Четыре армии, по триста тысяч человек каждая, обрекали Азию на опустошение. Всякий поймет, что Троянская война, удивившая несколько столетий спустя весь мир, была по сравнению с этой войной лишь детской забавой, но следует также принять во внимание, что в Троянской войне распря возникла из-за женщины уже пожилой и весьма распутной, дозволившей дважды себя похитить [17], тогда как здесь дело касалось двух девушек и птицы.
Индийский царь решил поджидать свою армию на широкой, великолепной дороге, которая тянулась тогда от Вавилона до Кашмира. Скифский царь с Алдеей выбрали живописный путь, который вел к горе Имаус. Впоследствии все эти дороги из-за небрежного к ним отношения исчезли. Египетский фараон направился на запад и двинулся вдоль берегов небольшого моря, именуемого Средиземным, которое невежественные евреи прозвали потом «Великим морем».
А прекрасная Формозанта следовала по Бассорской дороге, обсаженной высокими пальмами, всегда дававшими тень и во все времена года приносившими плоды. Храм, куда она направлялась на поклонение, находился в самой Бассоре. Святой, в честь которого он был воздвигнут, мало чем отличался от того, которому впоследствии поклонялись в Лампсаке [18]. Он не только раздобывал девушкам мужей, но нередко сам заменял их. Это был наиболее чтимый в Азии святой.