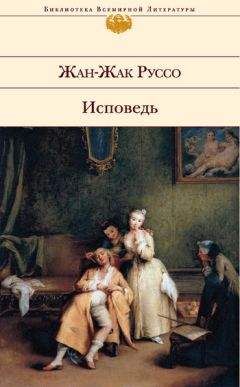Мрачноватая развязка. И все-таки в подтексте другая тема — оптимистическая: каким хотел бы Руссо видеть человека? Только мыслящим существом? Нет — и деятельным тоже. Следовательно, и гармоничным. В книге об Эмиле написано: «Разум многим обязан страстям, а страсти — разуму». Не страсти хотел бы «преодолеть» Руссо, а созерцательность просветительского мировоззрения. Пусть активность своих героев Руссо не сумел представить живыми картинами: о делах Вольмара в Петербурге мы узнаем из лаконичного сообщения Юлии; о кругосветном путешествии Сен-Пре — не на много более подробная информация — в письме к Кларе. Все же знаменательно, что Вольмар (кстати, не русский ли он?) был участником какой-то заговорщической, вероятно, революционной группы, едва избежал ссылки в Сибирь и потерял состояние. Все-таки, хотя Сен-Пре интеллектуально общается лишь с людьми высших классов, от народа практически обособлен, его возмущение тем, что он наблюдает в обоих полушариях земли и во Франции, таит в себе стимул к борьбе не только печатным словом.
Соединить желанные ому черты в одном образе Руссо не хотел, для такого художественного эксперимента он недостаточно романтик. В «Новой Элоизе» эти черты рассредоточены: Юлия необычайно отзывчива, гуманна; Сен-Пре импульсивен, пылок, богат разнообразными вибрациями чувств; Эдуард Бомстон темпераментный и волевой; Вольмар сдержан, дальновиден, внутренне собран. Между строк романа выплывает облик «героя времени», героя предреволюционной Франции, и не только этой страны: он пока еще слабее своих чаяний и дум, недоволен собой, зато упорно решает какие-то проблемы — этические, политические, художественные, — томится, счастливым быть не может, а что сулит ему будущее, не знает. Идеал человека, каким смутно представляет его себе Руссо, тем не менее обрисован, и потому «Новая Элоиза» — не только философско-лирический, но и в точном смысле слова идейный роман.
Если пытаться свести к единому знаменателю мнения о «Новой Элоизе» современников Руссо, это оказывается невозможным. Во втором предисловии, как мы уже знаем, фигурирует критик консервативного вкуса, привыкший к литературным персонажам с изысканными манерами, светским модницам, вельможам, военным, а тут какие-то безрассудные провинциалы, «будто из другого мира они». Господина N шокируют герои столь наивные, мечтательные, знакомые лишь с патриархальными нравами глухих местечек и деревень, понятия не имеющие о блеске французской столицы. Сен-Пре — влюбленный безумец, какой-то Селадон из галантного романа французского писателя XVII века д’Юрфе. Угрюмая Юлия и чересчур снисходительная Клара — две болтуньи, томные влюбленные Астреи того же романа. Эдуард Бомстон — донкихот. А как смешон Вольмар, усердствующий в том, чтобы ввести в свой дом недавнего любовника жены! И как непоследователен Руссо: требуя строжайшей цензуры к искусству, показывающему страстные чувства, он рисует сцену в роще, где происходят достаточно интимные встречи любовников.
Острословы Парижа, возражает «собеседнику» Руссо, презирают добродетели всех видов, а мечтатели из городка Кларан сохранили чистоту и силу нравственного чувства. Старомодный провинциализм — источник достоинств более высоких в измерениях подлинной человечности. В романе «Новая Элоиза», говорит еще Руссо языком реалиста, «нет ничего неожиданного, никаких театральных эффектов»; среди персонажей романа «нет никаких совершенных людей». Вместо «хорошего общества», где даже «легкость состоит из множества правил», а воспитанность — в том, чтобы «ловить все модные новшества», — самобытные личности, и таких — большинство… «Разве вы не знаете, — обращается Руссо к «собеседнику», — насколько люди отличны друг от друга, насколько противоположны их характеры, насколько нравы и предрассудки меняются в зависимости от времени, места и возраста? Кто же дерзнет установить точные границы естественности и скажет: вот до сего предела человек может дойти, а дальше нет?»
В лице г-на N выступает образованный дворянин с присущей ему эстетикой застывших нормативов. Тем не менее взгляд его на «безрассудства» героев «Новой Элоизы» мог быть одобрен в среде энциклопедистов. Так и было в действительности: за исключением д’Аламбера, они встретят роман Руссо без особого восторга. Печатный орган просветителей дал «Новой Элоизе» в общем положительную оценку, упрекнув только Руссо в нарушениях правдоподобия и «странной картине человеческого сердца». Резче высказался Вольтер, очевидно имея в виду малопривлекательные образы парижан и обаятельные образы швейцарцев: «Наполовину галантный, наполовину моральный роман, но в нем нет ни истинной галантности, ни истинной морали, ни вкуса, ни одного достоинства, кроме клеветы на нашу нацию».
Тем не менее уже в XVIII веке «Новая Элоиза» завоевала читателей всех стран Европы и выдержала более 60-ти изданий. Руссо получил тысячи писем. Проявила интерес к роману и аристократическая публика, интерес даже более сочувственный, чем тогдашняя буржуазная, особенно в Швейцарии. В Англии симпатии к Руссо выразили Голдсмит, Юнг, Каупер, Бернс; в Германии — Гердер и Лессинг, Гете и Шиллер, поэты «бури и натиска», навеки считавшие себя обязанными автору «Новой Элоизы» за раскрепощение внутреннего чувства. Повсюду этот роман способствовал созданию атмосферы героической, самоотверженной борьбы против крепостнического в абсолютистского режима. На ораторов и писателей периода французской революции Руссо оказал влияние не только как автор трактатов, но и как автор популярнейшего романа.
Не случайно в самый разгар великих событий — французская монархия низложена, запутанная борьба партий — появилась книга с программным названием: «О Ж.-Ж. Руссо, одном из главных писателей, подготовивших революцию». Автор этой книги — Мерсье разъяснял французам 1791 года: «Никогда еще художник слова не показывал, что в равной степени могут волновать столь отдаленные друг от друга, прямо противоположные сферы — красноречие страстной любви и теоретические сложности политики — «Новая Элоиза» и «Общественный договор» написаны одной и той же рукой»[3]. В романе Руссо «ярко изображена любовь, чтобы оправдать заблуждения этой страсти», продолжал Мерсье. В отличие от ричардсоновской Клариссы, Юлия не без слабостей, но какой отец будет краснеть, если его провинившаяся дочь вернется на стезю добродетели?.. Попутно разоблачен принцип дворянской чести — этот варварский предрассудок наследственной аристократии, по мнению которой, все, кто к ней не принадлежит, являются «сбродом, ничтожествами, канальями»… Недаром слова Юлии: «Жена угольщика более достойна уважения, нежели любовница принца» — вызвали ярость г-жи де Помпадур. Наконец, и прежде всего: сколько душевного благородства в Сен-Пре, готовом на все жертвы ради избранницы своего сердца! Восхваляя Сен-Пре, Мерсье обошел вопрос, почему в революционной Франции больше интересуются «заблуждениями» любовной страсти Сен-Пре, больше «жертвами», которые он принес «добродетели», чем самой любовью его и ее трагическим исходом.
В XIX веке Руссо освещали как предтечу Байрона, с его «мировой скорбью», и Шелли, имея в виду пантеизм английского поэта и его веру в человечество. От Сен-Пре тянутся нити к образам Шатобриана, Сенанкура, Мюссе, русского романтика В. Ф. Одоевского, вспомнившего «особенных» людей Руссо в рассказе «Странный человек». Неизданный при жизни Бальзака роман в письмах «Степи, или Философские заблуждения» (1818–1819) повторяет многие темы «Новой Элоизы», создатель «Человеческой комедии» воспринял оттуда критическое отношение к блеску титулов и притягательной силе богатства, ко всей цивилизации с ее классовыми антагонизмами. Чернышевский вложил в уста героини романа «Что делать?» мысль о том, что в «Новой Элоизе» впервые родилась женщина с чувством достоинства. Впрочем, по мнению Чернышевского, этот роман устарел. Л. Н. Толстой, напротив, сказал: «Руссо не стареет», и два месяца прожил в Кларане — «в том самом местечке, где жила Юлия Руссо». О самом романе великий русский писатель сказал: «Эта прекрасная книга заставляет думать».
Многие тревоги Руссо о судьбах человечества созвучны нашему времени, но из книг и статей некоторых буржуазных критиков мы узнаем, что он якобы весь растворился в «полутонах» собственной душевной жизни или «пещерах своего духа», где царит кромешная тьма, что, по его убеждению, человек обречен на страдания, на полное одиночество, непонимание окружающих, и миг счастья — единственное для него утешение. Исчезает Руссо-демократ, идеолог «четвертого сословия» внутри третьего — тружеников города и деревни; остается эксцентричный нелюдим с «разорванным сознанием», вечными терзаниями, драматическими спорами с самим собой, неверием в исторические перспективы и в силу разума… Жалкий, слабый человек, и как раз поэтому «человек XX века»!