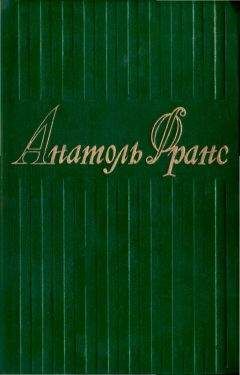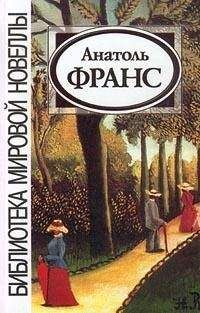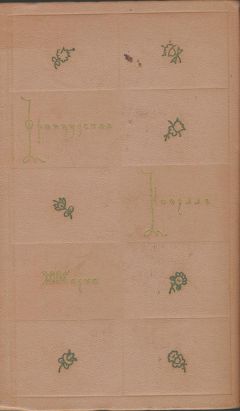Часы показывали двадцать минут второго. Вдруг его охватили волнение и надежда. Это она! Как знать, что она скажет? Может быть, она объяснит свое опоздание самым естественным образом.
Фелиси вошла в столовую — усталая, рассеянная, притихшая, хорошенькая, счастливая; волосы растрепались, глаза блестели, щеки покрывала бледность, губы были воспалены и помяты; казалось, что под тальмой, которую она запахнула и крепко держит обеими руками, она таит остаток пыла и страсти. Мать сказала:
— Я уже начала беспокоиться… Ты не раздеваешься?
Фелиси ответила!
— Я проголодалась.
Она опустилась на стул у круглого столика. Откинула на спинку тальму и сидела такая тоненькая в простеньком черном платьице, опершись левой рукой о стол, покрытый клеенкой, и тыкая вилкой в ломтики колбасы.
— Ну как сегодня сошел спектакль, хорошо? — спросила г-жа Нантейль.
— Очень хорошо.
— Видишь, Шевалье пришел посидеть с тобой. Как это мило с его стороны, правда?
— А-а, Шевалье. Ну, так чего же он не садится за стол?
И, не отвечая больше на вопросы матери, она с жадностью накинулась на еду, очаровательная, как Церера, пришедшая к старухе[11]. Потом отодвинула тарелку и, откинувшись на спинку стула, полузакрыв глаза, приоткрыв рот, улыбнулась улыбкой, похожей на поцелуй.
Госпожа Нантейль, выпив подогретого вина, встала:
— Вы меня извините, господин Шевалье, мне надо подвести итог за день.
В таких словах она обычно объявляла, что идет спать.
Оставшись один с Фелиси, Шевалье пылко сказал:
— Это глупо! Это малодушно! Но я схожу с ума от любви к тебе… Слышишь, Фелиси?
— Ну, конечно, слышу! Незачем говорить так громко.
— Это смешно, правда?
— Нет, это не смешно, это… Она не кончила.
Он приблизился к ней, пододвинув свой стул.
— Ты возвратилась домой в двадцать пять минут второго. Тебя провожал Линьи, я в этом уверен. Вы приехали вместе, я слышал, как у твоего дома остановился экипаж.
Она ничего не ответила, и он снова заговорил:
— Скажи, что это неправда!
Она молчала. И он повторил настойчиво и умоляюще:
— Скажи, что неправда!..
Если бы она хотела, ей достаточно было сказать слово, кивнуть головой, пожать плечами, и он сразу смягчился бы и почувствовал себя почти счастливым. Но она хранила недоброе молчание. Сжав губы, глядела она в пространство, словно погруженная в мечты.
Он вздохнул и сказал хриплым голосом:
— Дурак, об этом я не подумал! Я был уверен, что ты пойдешь домой, как всегда, с госпожой Дульс или одна… Если бы я только знал, что тебя будет провожать этот субъект!..
— Ну, что бы ты сделал, если бы знал?
— Я бы выследил вас!
Она посмотрела на него сразу посветлевшими глазами:
— Не смей, слышишь, не смей! Если ты хоть раз попробуешь меня выследить и я это узнаю, — не показывайся мне больше на глаза. Прежде всего никто не давал тебе права следить за мной. Вольна я или нет делать, что хочу?
Задыхаясь от удивления и гнева, он пробормотал:
— Никто не давал права? Никто не давал права?.. Ты говоришь, никто не давал права?..
— Да, никто не давал… А потом я не хочу!
На ее лице отразилось отвращение.
— Шпионить за женщиной подло. Если ты хоть раз посмеешь проследить, куда я иду, я без долгих разговоров выставлю тебя за дверь.
— Так выходит, что мы уже друг для друга ничего не значим, — не веря своим ушам, пробормотал он, — я для тебя ничего не значу… Мы не принадлежим друг другу… Послушай, Фелиси, вспомни…
Но она в нетерпении перебила его:
— Ну, что я должна вспомнить?
— Фелиси, подумай, ведь ты была моей!
— Не хочешь ли ты, милый мой, чтобы я об этом целый день думала? Это уж чересчур.
Он посмотрел на нее скорее с любопытством, чем с гневом, и сказал горько и вместе с тем мягко:
— Да, ты бессердечна!.. Ну что же, Фелиси, будь бессердечна. Будь бессердечна сколько хочешь! Не все ли равно, раз я тебя люблю? Ты моя, я возьму тебя, возьму и не отдам. Пойми! Не могу же я вечно мучиться, как дурак! Послушай: я все забуду. Мы снова будем любить друг друга. И на этот раз все пойдет хорошо. Ты будешь принадлежать мне, и только мне. Ты знаешь, я человек порядочный. Ты можешь мне верить. Дай мне только стать на ноги, и мы поженимся.
Она посмотрела на него с презрительным удивлением. Он подумал, что она сомневается в его театральной карьере, и, чтобы рассеять ее сомнения, он выпрямился во весь свой длинный рост и сказал:
— Ты не веришь в мою звезду, Фелиси? Напрасно. Я чувствую, что у меня большой драматический талант. Пусть только мне дадут роль, и я покажу, на что я способен. И не только в комедии, но и в драме, и в трагедии… Да, в трагедии. Я умею читать стихи. А этот дар сейчас встречается все реже и реже… Итак, Фелиси, ты не можешь счесть за обиду мое предложение жениться на тебе. Конечно же нет… Мы поженимся, когда это будет возможно и своевременно. Над нами не каплет. А пока мы заживем по-старому, как на улице Мучеников. Ты помнишь, Фелиси, как мы были там счастливы! Кровать была узкая. Но мы говорили: «Что с того». Теперь у меня две прекрасные комнаты на улице святой Женевьевы, позади церкви святого Стефана. На всех стенах у меня твои портреты… И наша узенькая кроватка переехала туда с улицы Мучеников… Послушай, я слишком много выстрадал, дольше страдать я не в силах. Я требую, чтобы ты была моей, только моей.
Пока он говорил, Фелиси взяла с камина карты, на которых ее мать гадала каждый вечер, и разложила их на столе.
— Только моей… Слышишь, Фелиси?
— Оставь меня в покое, я загадала.
— Послушай, Фелиси, я требую, чтобы ты не пускала к себе в уборную этого идиота…
Она рассматривала карты, бормоча:
— Все черные внизу.
— Да, идиота. Он дипломат, а министерство иностранных дел — это прибежище бездарностей.
Он повысил голос.
— Фелиси, ради твоего и моего спокойствия выслушай меня.
— Не кричи: мама спит. Он сказал глухим голосом:
— Знай, я не хочу, чтобы Линьи стал твоим любовником.
Она повернула к нему свою хорошенькую головку и зло спросила:
— А если он уже мой любовник?
Шевалье поднял стул, шагнул к ней и, посмотрев на нее обезумевшими глазами, рассмеялся надтреснутым смехом.
— Если он уже твой любовник, долго он им не пробудет.
И он опустил стул.
Теперь она испугалась. Она попыталась улыбнуться.
— Ты же понимаешь, что я пошутила.
Ей без большого труда удалось убедить его, что она сказала это, только чтобы наказать его, так как он стал невыносим. Он успокоился. Тогда она начала уверять, что падает от усталости, что хочет спать. Он решился наконец уйти. Уже в дверях он обернулся и сказал:
— Фелиси, во избежание несчастья советую тебе не встречаться больше с Линьи.
Она крикнула ему в приоткрытую дверь:
— Постучи в окно швейцарской, чтобы тебя выпустили.
В зрительном зале было темно, длинные полотнища покрывали ложи и балкон. Огромный чехол, натянутый на партер, был скатан по краям и на свободных креслах виднелись в темноте бледные тени — актеры, машинисты сцены, костюмеры, друзья директора, матери и любовники актрис. То здесь, то там в черных провалах бенуара поблескивали глаза.
Репетировали в пятьдесят шестой раз «Ночь на 23 октября 1812 г.», нашумевшую драму двадцатилетней давности, которая еще не шла на сцене «Одеона». Актеры сыгрались, и на следующий день была назначена последняя специальная репетиция, та, которую в театрах не столь строгих, как «Одеон», называют «прогоном».
Нантейль не была занята в пьесе. Но у нее нашлись дела в театре, и, так как ей сказали, что Мари-Клэр из рук вон плоха в роли генеральши Мале, она пришла посмотреть на нее и теперь сидела в глубине ложи бенуара.
Шла центральная сцена второго акта. Декорация изображала мансарду дома умалишенных, где держали генерала-заговорщика в 1812 г. На сцену вышел Дюрвиль, игравший роль генерала Мале[12]. Он репетировал в костюме: в длинном синем сюртуке, с высоким, закрывавшим уши воротником, в лосинах. Он даже сделал себе грим под воинственного генерала Империи, с гладко выбритым подбородком и маленькими бачками впоследствии унаследованными от героев Аустерлица их сыновьями, представителями июльской буржуазии[13]. Дюрвиль опустил голову на правую руку, локоть которой подпер левой ладонью, и стоял в гордом сознании неотразимости своего бархатного голоса и ног, обтянутых лосинами.
— «Одному, без денег, из темницы восстать на этого колосса, который повелевает миллионом солдат и повергает в трепет все народы и всех властителей Европы… Ну, что же? Колосс падет».
Из глубины сцены ему подал реплику старик Мори, игравший заговорщика Жакмона: