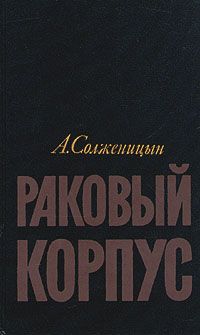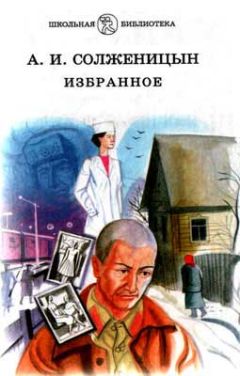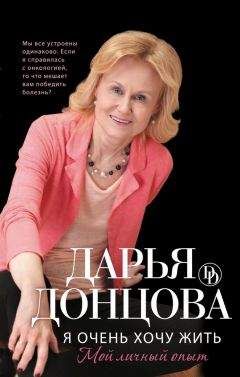— В заднем проходе ковырять, — сгрубил Костоглотов.
Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу! Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия.
— Так если почитать или что другое — можно выйти в коридор, — справедливо указал Павел Николаевич. — Почему вы присваиваете себе право решать за всех? Тут — разные больные, и надо делать различия…
— Сделают, — оклычился тот. — Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас — ногами вперёд.
Такого необузданного неподчинения, такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил. И он даже терялся — что можно противопоставить? Не жаловаться же этой девчёнке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки, осторожно лёг и накрылся полотенцем.
Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лёг в эту клинику. Но не поздно будет завтра же и выписаться.
На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь все терпеть. Когда-нибудь же они успокоятся.
Но опять началась ходьба и тряска между кроватями — это, конечно, Ефрем вернулся. Старые половицы комнаты отзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж решил Павел Николаевич замечания ему не делать, терпеть.
Сколько ещё в нашем населении неискорененного хамства! И как его с этим грузом вести в новое общество!
Бесконечно тянулся вечер! Начала приходить сестра — один раз, второй, третий, четвёртый, одному несла микстуру, другому порошок, третьего и четвёртого колола. Азовкин вскрикивал при уколе, опять клянчил грелку, чтоб рассасывалось. Ефрем продолжал топать туда-сюда, не находил покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей кровати. Как будто все только сейчас и оживали по-настоящему, как будто ничто их не заботило и нечего было лечить. Даже Дёмка не ложился спать, а пришёл и сел на койку Костоглотова, и тут, над самым ухом Павла Николаевича, они бубнили.
— Побольше стараюсь читать, — говорил Дёмка, — пока время есть. В университет поступить охота.
— Это хорошо. Только учти: образование ума не прибавляет.
(Чему учит ребёнка, Оглоед!)
— Как не прибавляет?!
— Так вот.
— А что ж прибавляет?
— Ж-жизнь.
Дёмка помолчал, ответил:
— Я не согласен.
— У нас в части комиссар такой был, Пашкин, он всегда говорил: образование ума не прибавляет. И звание — не прибавляет. Иному добавят звёздочку, он думает — и ума добавилось. Нет.
— Так что ж тогда — учиться не надо? Я не согласен.
— Почему не надо? Учись. Только для себя помни, что ум — не в этом.
— А в чём же ум?
— В чём ум? Глазам своим верь, а ушам не верь. На какой же ты факультет хочешь?
— Да вот не решил. На исторический хочется, и на литературный хочется.
— А на технический?
— Не-а.
— Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты — нет?
— Меня… общественная жизнь очень разжигает.
— Общественная?.. Ох, Дёмка, с техникой — спокойней жить. Учись лучше приёмники собирать.
— А чего мне — покойней!.. Сейчас вот если месяца два тут полежу — надо за девятый класс подогнать, за второе полугодие.
— А учебники?
— Да два у меня есть. Стереометрия очень трудная.
— Стереометрия?! А ну, тащи сюда!
Слышно было, как пацан пошёл и вернулся.
— Так, так, так… Стереометрия Киселева, старушка… Та же самая… Прямая и плоскость, параллельные между собой… Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в плоскости, то она параллельна и самой плоскости… Чёрт возьми, вот книжечка, Дёмка! Вот так бы все писали! Толщины никакой, да? А сколько тут напихано!
— Полтора года по ней учат.
— И я по ней учился. Здорово знал!
— А когда?
— Сейчас тебе скажу. Тоже вот так девятый класс, со второго полугодия… значит, в тридцать седьмом и в тридцать восьмом. Чудно в руках держать. Я геометрию больше всего любил.
— А потом?
— Что потом?
— После школы.
— После школы я на замечательное отделение поступил — геофизическое.
— Это где?
— Там же, в Ленинграде.
— И что?
— Первый курс кончил, а в сентябре тридцать девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати, и меня загребли.
— А потом?
— Потом действительную служил.
— А потом?
— А потом — не знаешь, что было? Война?
— Вы — офицер были?
— Не, сержант.
— А почему?
— А потому что если все в генералы пойдут, некому будет войну выигрывать… Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения… Слушай, Дёмка! Давай я с тобой каждый день буду стереометрией заниматься? Ох, двинем! Хочешь?
— Хочу.
(Этого ещё не хватало, над ухом.)
— Буду уроки тебе задавать.
— Задавай.
— А то, правда, время пропадает. Прямо сейчас и начнём. Разберём вот эти три аксиомы. Аксиомы эти, учти, на вид простенькие, но они потом в каждой теореме скрытно будут содержаться, и ты должен видеть — где. Вот первая: если две точки прямой принадлежат плоскости, то и каждая точка этой прямой принадлежит ей. В чём тут смысл? Вот пусть эта книжка будет плоскость, а карандаш — прямая, так? Теперь попробуй расположить…
Заладили и долго ещё гудели об аксиомах и следствиях. Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повёрнутый к ним спиной. Наконец, замолчали и разошлись. С двойным снотворным заснул и умолк Азовкин. Так тут начал кашлять аксакал, к которому Павел Николаевич повёрнут был лицом. И свет уже потушили, а он, проклятый, кашлял и кашлял, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнётся.
Повернулся Павел Николаевич спиной и к нему. Он снял полотенце с головы, но настоящей темноты всё равно не было: падал свет из коридора, там слышался шум, хождение, гремели плевательницами и вёдрами.
Не спалось. Давила опухоль. Такая счастливая, такая полезная жизнь была на обрыве. Было очень жалко себя. Одного маленького толчка не хватало, чтоб выступили слёзы.
И толчок этот не упустил добавить Ефрем. Он и в темноте не унялся и рассказывал Ахмаджану по соседству идиотскую сказку:
— А зачем человеку жить сто лет? И не надо. Это дело было вот как. Раздавал, ну, Аллах жизнь и всем зверям давал по пятьдесят лет, хватит. А человек пришёл последний, и у Аллаха осталось только двадцать пять.
— Четвертная, значит? — спросил Ахмаджан.
— Ну да. И стал обижаться человек: мало! Аллах говорит: хватит. А человек: мало! Ну, тогда, мол, пойди сам спроси, может у кого лишнее, отдаст. Пошёл человек, встречает лошадь. „Слушай, — говорит, — мне жизни мало. Уступи от себя“. — „Ну, на, возьми двадцать пять“. Пошёл дальше, навстречу собака. „Слушай, собака, уступи жизни!“ „Да возьми двадцать пять!“ Пошёл дальше. Обезьяна. Выпросил и у неё двадцать пять. Вернулся к Аллаху. Тот и говорит: „Как хочешь, сам ты решил. Первые двадцать пять лет будешь жить как человек. Вторые двадцать пять будешь работать как лошадь. Третьи двадцать пять будешь гавкать как собака. И ещё двадцать пять над тобой, как над обезьяной, смеяться будут…“
Хотя Зоя была толкова, проворна и очень быстро сновала по своему этажу от стола к кроватям и снова к столу, она увидела, что не успевает выполнить к отбою всех назначений. Тогда она подогнала, чтоб кончить и погасить в мужской палате и в малой женской. В большой же женской — огромной, где стояло больше тридцати коек, женщины никогда не угоманивались вовремя, гаси им свет или не гаси. Многие там лежали подолгу, утомились от больницы, сон у них был плох, душно, постоянно шёл спор — держать ли балконную дверь открытой или закрытой. А было и несколько изощрённых любительниц поговорить из угла в угол. До полуночи и до часу ночи тут все обсуждали то цены, то продукты, то мебель, то детей, то мужей, то соседок — и до самых бесстыжих разговоров.
А сегодня там ещё мыла пол санитарка Нэлля — крутозадая горластая девка с большими бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никак не могла кончить, встревая в каждый разговор. Между тем ждал своей ванночки Сибгатов, чья кровать стояла в вестибюле перед входом в мужскую палату. Из-за этих вечерних ванночек, а также стесняясь дурного запаха от своей спины, Сибгатов добровольно оставался лежать в вестибюле, хотя он был здесь издавнее всех старожилов — уж будто и не больной, а на постоянной службе.
Быстро мелькая по женской палате, Зоя сделала Нэлле одно замечание и второе, но Нэлля только огрызнулась, а подвигалась медленно. Она была не моложе Зои и считала обидой подчиняться девчёнке. Зоя пришла сегодня на работу в праздничном настроении, но это сопротивление санитарки раздражало её. Вообще Зоя считала, что всякий человек имеет право на свою долю свободы и, приходя на работу, тоже не обязательно должен выложиться до изнемоги, но где-то была разумная мера, а тем более находясь при больных.