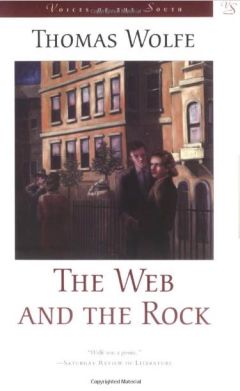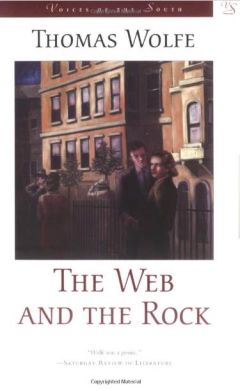нем — полосатые брюки, он расхаживает по мягким коврам, он великолепен и полон сил, как хорошо откормленный бык, и что-то есть в нем от могучего коня из Иова, который роет ногою землю и при трубном звуке издает голос: «Гу! Гу!»
И весь день по всему магазину будут звать ее сестру, которая мало говорит и редко улыбается. Они не могут без нее обойтись, они будут спрашивать ее повсюду, богатая женщина будет требовать ее, знаменитая куртизанка скажет, что хочет с ней посоветоваться. И когда она придет, они скажут: «Я хотела узнать ваше мнение, потому что остальные ничего не смыслят. Только вы понимаете меня. Только с вами я могу разговаривать». Но они не могут с ней разговаривать, потому что она никогда не говорит. И все же им хочется быть поближе к ней, исповедаться ей, излить свои слова в ее молчание: ее большие спокойные глаза смотрят на них, и от этого им хочется говорить. Тем временем Розены улыбаются.
Так, остановившись в гуще неугомонного человеческого роя, я думал об этих людях и об этих предметах. Я думал о мистере Розене, о той женщине и ее сестре, о тысяче странных и сокровенных мгновений нашей жизни. Я думал о том, что прахом великого Цезаря можно заделать стену [2] и о том, как наша жизнь соприкасается с каждой другой жизнью, когда-либо прожитой на земле, о том, что каждый безвестный миг, каждая безвестная жизнь, каждый умолкший голос и забытый шаг отдавались где-то в воздухе вокруг нас. «Смотреть на вещи так значило бы смотреть чересчур пытливо». — «Нет, нисколько, честное слово» [3]. Шаг, прозвучавший на этих мостовых, рождает эхо в пыли Италии, а Розены все улыбаются.
И мне казалось, что скученная пестрая жизнь нашей земли похожа на ярмарку. Вот строения этой ярмарки — лавки, палатки, таверны, балаганы. Вот места, где люди продают, покупают, меняют, едят, пьют, ненавидят, любят и умирают. Вот миллионы обычаев, которые им кажутся незыблемыми; вот древняя вечная ярмарка, обезлюдевшая, пустая и покинутая сегодня ночью, завтра — запруженная новыми толпами и лицами, наводнившими миллионы ее закоулков и переходов, людьми, которые рождаются, стареют, изнашиваются и, наконец, умирают здесь.
Они не слышат огромного темного крыла, которое машет в воздухе над ними, они думают, что их мгновение длится вечно, они так сосредоточенны, что едва замечают, как спотыкаются и стареют. Они не поднимают глаз к бессмертным звездам над бессмертной ярмаркой, они глухи к непререкаемому голосу времени, звучащему в высях и не смолкающему ни на миг, какие бы люди ни жили и ни умирали. Голос времени далек и тих, и все же в нем — весь гомон миллионноязыкой жизни, время питается жизнью, но само живет над ней и отдельно от нее, неспешное и задумчивое, словно ток реки, окаймляющей ярмарку.
И вот, когда я смотрел в тот солнечный день на воздушные переплетения стального остова, зная, что эти тонкие полоски металла, эти плиты дорогого известняка, уже одевшие цоколь по фасаду и элегантной своей стройностью напоминавшие бока женщин, которые будут здесь наряжаться, спрядены чудесным образом из невесомой материи парижских туалетов, сконденсированы из тончайших на свете духов, сложены из человеческой выдумки и волшебства женских рук, — все казалось мне милым и прекрасным.
Потому что над и за этим стальным кружевом, над клокочущим потоком уличной жизни, над всем искрящимся круговоротом великой ярмарки вдруг с ослепительной ясностью я увидел веселое, тонкое, цветущее, полное благородной красоты лицо моей возлюбленной. Это видение как будто дало речь радости, уверенность — силе и счастью, которые я ощущал, сосредоточив в своей маленькой окружности, словно в венчике цветка, все богатство, яркость и многообразие жизни и улицы, и я почувствовал такой прилив торжества и веры, что показалось, будто я способен съесть и выпить город и овладеть землей.
И вот, пока я смотрел на фигурки строителей, которые копошились высоко в чистом небе и бойко сновали взад-вперед по балкам, — невзначай и между делом, как в страшном сне, совершилось убийство. На девятом этаже маленькая фигурка ловко подхватывала ведром раскаленные докрасна болты или заклепки, которые кидал из горна человек с клещами. Горновой на секунду прервал работу и, не выпуская клещей, отвернулся, чтобы перекинуться словом с рабочим на соседней балке. Ловивший обрадовался передышке, поставил ведро и выпрямился, с сигаретой в зубах, прикрывая ладонями огонек спички. А горновой, еще смеясь какой-то соленой шутке, не имевшей касательства к стали, обернулся к горну, выхватил клещами тускло-красную заклепку и, по-прежнему сотрясаясь от хохота, швырнул небрежно и ловко, по привычной дуге этот огненный гвоздь. Вопль его ворвался в отголоски его смеха, неся скопищу точных, непогрешимых машин внизу страшную весть о человеческой ошибке.
Вопль его был: «Боже!» — и при этом слове, так редко употребляемом для любви и милосердия, испуганный взгляд первого человека перескочил со спички на смерть, которая неслась к нему. Даже на двух метрах остававшейся ему жизни тело его успело сделать несколько движений. В полуобороте, с согнутыми, словно перед прыжком в воздух, коленями, оно опустило плечо, и большие коричневые руки напрасным, запоздалым движением потянулись к ведру. Напряженно присев, выгнув ладони в гротескной, жуткой позе мольбы и одной ногой нашаривая в пустоте опору, он встретил смерть лицом к лицу. Когда заклепка попала в него, его тело на секунду замерло в полусогнутом, нелепо напряженном положении; только нога неуклюже и жутко шарила в пространстве да клубок дыма разматывался у пояса. Потом его истрепанная одежда вспыхнула, человек слепо, с тошнотворной безучастностью ступил в пустоту и упал — факел, зажженный единым воплем.
И этот звучный вопль, пылая, обрушился с ясного неба. Мне показалось, что он заполнил собой весь мир, что вся жизнь была неподвижна и нема — кроме этого крика. Возможно, так оно и было. На стройке, по крайней мере, всякая жизнь прекратилась: там, где секунду назад грохотали клепальные машины, гремели лебедки, стучали молотки плотников, теперь была тишина и обморочная неподвижность.
Над домом тонкими черточками в голубом небе покачивались в петле стропа две балки, но все механизмы бездействовали. Сигнальщик перегнулся через ригель с протянутыми руками, все еще подавая знак машинисту. Горновой сидел верхом на балке, вцепившись в нее согнутыми руками и вытянув вперед шею в оцепенении ужаса. Тело упало, как сгусток горящей смолы, на деревянный навес над тротуаром и отскочило на улицу.
Затем иллюзия ледяной тишины, сковавшей весь мир, исчезла. Толпа, которая при всяком несчастье в городе вырастает из-под земли,