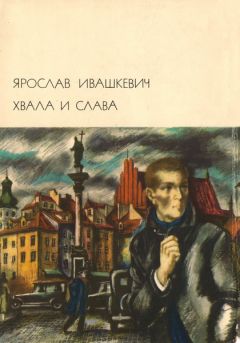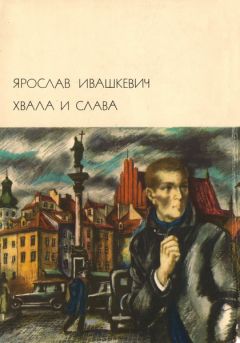Ройская как-то сказала Янушу: если в обществе создается гнетущая атмосфера, то лучше всего прямо заговорить об этом — все становится ясно, и обстановка обычно разряжается. Сейчас он вспомнил ее слова.
— Знаете, — неожиданно для собеседников заговорил он, — а ведь мы как-то не можем найти себя в Варшаве. Я, например, никак не могу освоиться в квартире сестры, старуха мне чертовски надоела со своими великосветскими манерами. И вы оба, мне кажется, не очень хорошо чувствуете себя здесь. Особенно в данную минуту.
Эдгар встал и прошелся по комнате. Он остановился у рояля и раскрыл ноты песен Дюпарка.
— Для меня самое важное — моя музыка, — сказал он. — А откуда теперь взяться музыке?
— Ах, а у меня столько работы, — неискренне сказала Оля, втыкая иглу в шитье. — Я ни о чем не думаю.
— А я думаю, — медленно процедил Эдгар, — думаю. Мне пора уезжать из этой Польши, но сейчас это было бы трусостью, и потому я сижу здесь. Через несколько дней отправляюсь в Аркадию под Ловичем. Может быть, там я смогу писать.
— Бегство? — резко спросил Януш.
Эдгар пожал плечами.
— Ну, бегство, если хочешь. Только бегу я от самого себя.
Оля совершенно неуместно улыбнулась и ни с того ни с сего спросила:
— От Эльжуни есть какие-нибудь вести?
— Есть, — неохотно ответил Эдгар, — через месяц она уезжает в Америку.
— Ангажемент?
— Не знаю, но, наверно, ангажемент, если пишет: «Еду петь в Америку…»
— Счастливая! — вздохнула Оля.
— Завидуешь ей? — спросил Эдгар. — Почему?
— Прежде всего потому, что поет, а кроме того…
Януш прервал ее:
— Никогда не угадаешь, кому и в чем завидовать. Человек обычно не ценит того, чем сам обладает. Я, например, только тогда осознал, каким другом для меня был Юзек, когда потерял его.
— Кстати, как Ройская? — поинтересовался Эдгар.
— Она в Варшаве, — ответила Оля. — Живет у нас, а сейчас ушла не то на женское собрание, не то на митинг. Их сейчас хоть отбавляй.
— Я давно не видал ее, как она поживает? — спросил Шиллер.
— Неплохо. Все, что связано с гибелью Юзека, она спрятала глубоко в сердце. Никогда не говорит об этом, никогда не вспоминает о Молинцах. Увлекается общественной деятельностью и всегда чем-нибудь занята.
— А Валерек?
Оля снова занялась шитьем.
— Как вам сказать? Валерек очень невнимателен к матери. Выглядит он великолепно, служит в семнадцатом уланском полку. Был ранен, но сейчас опять уехал…
Послышался звонок, и в гостиную вбежал Франтишек Голомбек. За последнее время он изрядно потучнел, на его красном лице поблескивали капли пота. Остановившись посредине комнаты, он отдышался и, не здороваясь ни с кем, выпалил:
— Представьте себе, выбили окна в моей кондитерской!
— Боже милостивый! Кто выбил? — воскликнула Оля.
— Ой, прости меня, детка моя, — спохватился Голомбек, — не бойся, ничего страшного не произошло.
— А я и не боюсь ничего, я только хочу знать.
— Бабы выбили. Палками, камнями, бог знает чем. Кто-то их науськал, вот они и пошли людей на фронт выгонять. Как увидели, что в кондитерской много посетителей, бросились с палками к дверям; я — раз и дверь на запор, а они начали угрожать клиентам через окно, да как завоют: «На фронт, на фронт!» Посетители мои — наутек, через сад, а они по окнам — трах-бах! Четырех стекол как не бывало! Вы подумайте, какой убыток…
Оля поднялась с кресла.
— Ты присядь, Франтишек, — спокойно сказала она, — зря нервничаешь. Сейчас я прикажу подать кофе.
Она позвонила служанке, но появилась панна Романа.
— На кухне никого нет, — сообщила она.
— Будьте любезны, приготовьте кофе на четверых, — распорядилась Оля и, усевшись на подлокотнике, обняла Франтишека.
— Не горячись, Франек, — сказала она, — стекла вставят, и все будет в порядке.
— Не так-то легко сейчас найти стекло в Варшаве.
— Уж как-нибудь найдется, — спокойно уверила его Оля. — А мы вот с Эдгаром и Янушем беседовали здесь о совершенно других вещах.
— О чем же вы можете беседовать в такие времена? — с некоторым испугом спросил Франтишек.
— О жизни, об одиночестве, об искусстве…
— Сумасшедшие! — воскликнул кондитер, затем вскочил и начал расхаживать по гостиной, заложив руки за спину, отчего животик его еще больше выпятился.
— Послушай, а ведь это тоже способ мыслить обо всем — мыслить методом исключения, — сказала Оля.
Франтишек не понял.
— Ну и настроение у вас! Позавидуешь! — сказал он.
Януш повторил про себя:
— Методом исключения.
Когда они с Эдгаром вышли из квартиры Голомбеков, на улице было почти темно. Над Варшавой раскинулось прозрачное летнее небо. Они медленно шли по улицам. Первым заговорил Эдгар. Он никогда еще не произносил таких длинных монологов. Януш даже удивился: видно, многое накопилось в душе Эдгара, если у него такая потребность в излияниях.
— Мышление методом исключения — это изумительное открытие, и кто бы мог подумать, что оно придет в голову именно бедной Оле. Я почти ежедневно хожу к ним писать музыку, но у меня ничего не получается. Совсем не получается; чтобы сочинять музыку, нужна соответствующая атмосфера, а там такой атмосферы нет. Оля, бесспорно, человек уравновешенный, рояль у них хороший, в доме тишина, но вот эти ужасные картины на стене и особенно желтая мимоза на синем шелке… Всякий раз, как посмотрю на нее, так и обрывается начатая музыкальная фраза. Словом, как в стихах:
Живем мы в мире неразгаданном,
На одной из удобных планет,
Где есть многое, чего не надо нам,
Того ж, что нам хочется, — нет.
— Вот видишь, как хорошо было бы иметь такую Олю… — продолжал Эдгар.
Янушу пришлось наклониться к Эдгару, чтобы расслышать его слова: уличный шум, грохот автомобилей — все это мешало, а Эдгар говорил тихо, как бы обращаясь к самому себе:
— Мне кажется, что, сочиняя музыку, я тоже отдаю дань методу исключения. В том смысле, что процесс композиции исключает из моего бытия все другое, с чем бы я все равно не справился. Я попросту растерялся бы… Это уже случалось со мной в России во время революции. Мне бы никогда не решить те вопросы, которые волновали всех вокруг и которые навязал мне Володя. Знаешь, ведь перед отъездом из Одессы я часто встречался с Володей. Но от Ариадны он не получал никаких известий, — поспешно вставил он, как будто предчувствуя вопрос, готовый сорваться с уст Януша, — абсолютно никаких. Так вот, о музыке. Ее я выбрал, наверно, тоже методом исключения: ничего другого я не умею, да и не смог бы делать. Вчера я весь день анализировал вариации Брамса, ну, ты знаешь, на тему Паганини, и, поверишь, давно уже не испытывал такой радости. Пусть рушится весь мир, остались бы только вариации Брамса!
— А если они никому не понадобятся? Если и они рухнут?
Эдгар ничего не ответил.
А в это время по гостиной Голомбеков ковылял маленький Антось, которого привела панна Романа. Он только еще учился ходить, забавно переставляя ножки, балансируя поднятыми ручонками и раскачиваясь всем телом. Это был пухлый, розовощекий бутуз, очень похожий на Франтишека. И Оля, и панна Романа были в восторге. Малыш перебегал по ковру из рук панны Романы в руки матери и обратно и заливался радостным смехом, пока наконец не упал и не разревелся.
— Этим всегда кончается, — сказал Франтишек, с лица которого еще не сошла улыбка.
Вбежала обеспокоенная тетя Михася.
— Что случилось? Что такое?
Но ребенок плакал недолго. Оля взяла его на руки, прижала к груди, а он, свесившись, показал пальчиком на отца и серьезно произнес:
— Па-па, па-па. — Это слово он начал говорить совсем недавно.
Оля еще крепче прижала его к себе и стала осыпать поцелуями.
— Счастье, что ты хоть его любишь, — сказал Франтишек.
На третий день, как и договорились, Януш с Шушкевичем поехали осмотреть новое владение. Старуха княгиня предоставила в их распоряжение свой древний драндулет-автомобиль, который отличался не только весьма странным видом, по еще и мотором, гудевшим словно колокол. Не прошло и часа, как машина довезла их на место. Ехать нужно было сначала по шоссе на Сохачев и, не доезжая этого городка, свернуть направо; проехав несколько километров по узкой дороге, обсаженной древними каштанами, вы попадали в Коморов. Пейзаж здесь был грустный и монотонный, как прелюдия Шопена. Узкая дорога между каштанами вела прямо в усадьбу. Автомобиль въехал в ворота и остановился, Януш вышел и оглянулся вокруг.
Большой двор, окруженный с трех сторон еще крепкими строениями, был непомерно велик для такого скромного хозяйства. Справа и у ворот стояли конюшни и хлева, слева — высокий овин с пристроенным к нему амбаром пониже. В глубине, несколько на отлете, виднелся высокий домик кофейного цвета с белыми наличниками. В дом вело небольшое деревянное крыльцо, над которым висела кабанья голова. За домом раскинулся сад.