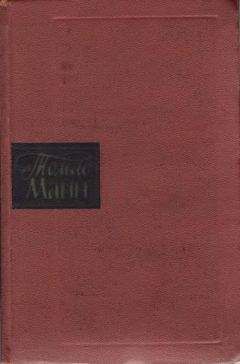Клаус-Генрих так был приучен обозревать, расспрашивать и высказывать лестные похвалы, что мог, и силу своего богатого опыта, в то же время думать о способе выражаться Иммы Шпельман, странном способе, который болезненно задевал его. Чего только она не говорила, выпятив губки! Какие слова походя срывались у нее с языка! «Страсть», «порок» — где она узнала их, чтобы так смело оперировать ими? Ведь графиня Левенюль, хоть и сама сбивчиво лепетала о чем-то подобном и, очевидно, немало испытала страшного, однако же говорила, что Имма ровно ничего не знает о жизни. И это, безусловно, иерпо, потому что она, подобно ему, Клаусу-Генриху, была исключительным случаем от рождения, тоже росла в «святой простоте», отгороженная от мирской суеты, непричастная всем мерзостям, которые в обычной жизни определяются этими громкими и грозными словами. Она усвоила только слова и забавы ради вставляла их в свои искусно отшлифованные фразы. У la, конечно, это колючее и нежное создание в красно- молотом платье жонглирует фразами, о жизни оно не знает ничего, кроме слов, оно играет самым серьезным и страшным, как разноцветными камешками, и не понимает, что может кого-нибудь огорчить! Когда Клаус-Генрих до этого додумался, сердце его преисполнилось жалости.
Только около семи часов он попросил послать за его каретой, несколько обеспокоившись, как посмотрят двор и общество на столь продолжительный визит. Когда он собрался уйти, Персеваль снова впал и дикую ярость. Благородный пес породы колли терял душевное равновесие от малейшей помехи или перемены в существующем положении вещей. Дрожа всем телом, заливаясь бешеным лаем, носился он по комнатам, по аванзале, вверх и вниз по лестнице, так что слова прощания тонули в неистовом гаме, и ничто не могло его усмирить. Дворецкий проводил принца через весь вестибюль со статуями богов.
Господин Шпельман не тронулся с места. Фрейлейн Шпельман удалось вставить фразу:
— Не сомневаюсь, что вы, принц, восхищены пребыванием в лоне нашей семьи. — И неясно было, то ли она смеется над выражением «в лоне семьи», то ли над сутью сказанного. Так или иначе, Клаус-Генрих не нашел, что ответить.
Он забился в угол кареты и, травмированный, разбитый, но и освеженный столь непривычным обращением, ехал через темный городской сад домой, в Эрмитаж, в свои неуютные ампирные апартаменты, где и отужинал с господами фон Шуленбург-Трессеном и Браунбарт-Шеллендорфом. На следующий день он прочел заметку в «Курьере». В ней кратко сообщалось, что его королевское высочество принц Клаус — Генрих изволил вчера откушать чай во дворце Дельфиненорт и осмотреть знаменитую коллекцию художественного стекла, собранную господином Шпельманом.
И Клаус-Генрих продолжал вести свою бессодержательную жизнь и осуществлять свое высокое назначение. Он произносил милостивые слова, делал положенные жесты, представительствовал при дворе и на балу у председателя государственного совета, давал общедоступные аудиенции, завтракал в офицерском собрании лейб-гренадеров, показывался в Придворном театре и удостаивал тот или иной город своим высоким присутствием. Улыбаясь и сдвинув каблуки, соблюдал он все правила этикета и с безупречной выдержкой выполнял свой тяжелый долг, хотя ему в ту пору было о чем поразмыслить: о вспыльчивом господине Шпельмане, о повредившейся в уме графине Левенюль, о неистовом Перси и особенно о хозяйской дочери Имме. На многие вопросы, вставшие перед ним после первого визита в Дельфиненорт, он пока еще не находил ответа и уяснил себе многое лишь из дальнейшего общения с домом Шпельманов, которое усиленно поддерживал, возбуждая напряженный, впоследствии даже лихорадочный интерес публики, а начал он с того, что однажды ранним утром, неожиданно для господ, я ля прислуги и для самого себя, в известной мере помимо собственной воли, так сказать покорствуя судьбе, прибыл один, верхом, в Дельфиненорт, чтобы пригласить на прогулку фрейлейн Имму, чем вдобавок помешал ее занятиям математикой.
В этот достопамятный год власть зимы была сломлена очень рано. После январской оттепели уже в середине февраля яркое солнце, птичий щебет и мягкий иетерок возвестили начало весны, и когда в первый такой благодатный денек Клаус-Генрих проснулся утром у себя в Эрмитаже на своей старинной широкой кровати красного дерева, где с верхушки одной из колонок давно исчез точеный шар, его словно коснулась властная рука и подвигла на решительные поступки. Он дернул шнурок (в Эрмитаже водились только старинные сонетки) и, когда на звонок явился Нейман, приказал, чтобы через час оседлали Флориана. А для лакея тоже приготовить лошадь? Нет, ни к чему. Клаус-Генрих заявил, что поедет один. Затем отдался для утреннего туалета в добросовестные неймановские руки, торопливо позавтракал внизу, в боскетной, и у ступенек небольшой террасы вскочил в седло, вставил ботфорты со шпорами в стремена, взял в правую руку, обтянутую коричневой перчаткой, желтый ременный повод, подбоченился левой под распахнутой шинелью и шагом выехал навстречу ясному утру, отыскивая в голых еще ветвях звонко щебетавших птиц. Он проехал открытую для публики часть своего парка, проехал городской сад и территорию Дельфиненорта. В половине десятого он прибыл, возбудив всеобщее изумление.
У главного портала он передал Флориана на попечение английского грума. Дворецкий как раз шел по хозяйственным делам через вестибюль с мозаичным полом, но, увидев Клауса-Генриха, застыл на месте от потрясения. Когда принц звонким и даже задорным голосом осведомился о дамах, дворецкий ничего не ответил, а растерянно повернулся к мраморной лестнице и молча переводил взгляд с Клауса-Генриха на верхнюю площадку, ибо там стоял господин Шпельман.
Он, по-видимому, недавно позавтракал и был в благодушном настроении. Руки он засунул в карманы брюк, скомкав полы теплой домашней куртки, надетой поверх бархатного жилета, и щурился от голубоватого дыма собственной сигареты.
— А, молодой принц! — промолвил он и посмотрел вниз.
Клаус-Генрих, приложив руку к козырьку, взбежал на лестницу по красной ковровой дорожке: У него было такое чувство, будто всю несообразность! положения можно одолеть только стремительным натиском.
— Вы, должно быть, удивлены, господин Шпельман, — заговорил он, — в такой ранний час… — Он запыхался и сам испугался — это было ему совсем непривычно.
Господин Шпельман мимикой и пожатием плеч показал, что приучен ничему не удивляться, однако настоятельно желает получить объяснение.
— Дело в том, что мы условились… — сказал; Клаус-Генрих. Он стоял двумя ступенями ниже миллиардера и смотрел на него снизу, вверх. — Мы cгoворились с фрейлейн Иммой покататься верхом. Я обещал показать дамам Фазанник или охотничий заповедник. Фрейлейн Имма говорила мне, что почти совсем не знает окрестностей. Мы условились, в первый же хороший день… А сегодня так хорошо… Конечно, без вашего согласия…
Господин Шпельман пожал плечами и сделал такую гримасу, будто хотел сказать: «Моего согласия — вот как?»
— Дочь уже взрослая, и я обычно в ее дела не вмешиваюсь. Хочет ехать, пусть едет. Но, по-моему, у нее времени нет. Узнайте сами. Вон она там. — И господин Шпельман, отойдя в сторону, мотнул подбородком на дверь, завешанную портьерами, в которую Клаус-Генрих, уже входил однажды.
— Благодарю! — ответил Клаус-Генрих. — Да, лучше я пойду сам, — и он поднялся наверх, решительным жестом раздвинул гобеленные портьеры и спустился по ступенькам в залитый солнцем, напоенный запахом растений зимний сад.
Перед журчащим фонтаном и водоемом, где плакали утки в художественном оперении, спиной к входящим за маленьким столиком сидела Имма Шпельман. Волосы у нее были распущены. Иссиня-черными блестящими прядями ниспадали они на обе стороны, разделенные посередине пробором, закрывали плечи, так что из-за них только смутно виднелась четвертушка по-детски округлого личика, бледного, как слоновая кость, на фоне темных, как ночь, волос. Окутанная этой мантией, прижавшись губами к тыльной части узенькой левой руки и согнув крючком указательный палец правой она вечным пером исправляла записи лекций в лежащей перед ней тетради.
Здесь же находилась и графиня и тоже что-то писала. Только сидела она поодаль под группой пальм, где Клаус-Генрих впервые беседовал с ней, и строчила, не сгибаясь, склонив голову набок, а целая пачка густо исписанной почтовой бумаги лежала рядом.
Услышав звон шпор, она подняла взгляд. Держа длинную ручку на весу, она несколько секунд сощуренными глазами смотрела на Клауса-Генриха, потом встала и сделала реверанс.
— Имма, здесь его королевское высочество принц Клаус-Генрих, — объявила она.
Фрейлейн Имма круто повернулась в плетеном кресле, откинула волосы на спину и молча изумленным, испуганным взглядом смотрела па незваного гостя, пока Клаус-Генрих не отдал честь и не пожелал дамам доброго утра. Тогда она сказала своим ломающимся голоском: