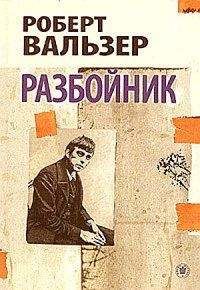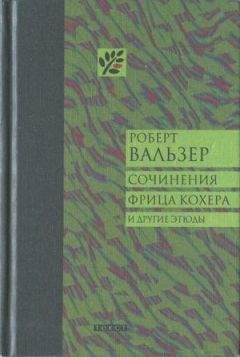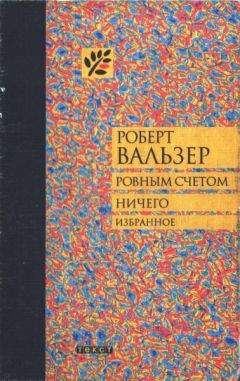Однажды вечером, когда уже начинало темнеть, я — словно задумавшись и погрузившись в мыслительную деятельность, а на самом деле, просто ясно и спокойно — потихоньку шёл в библиотеку, глядя на сияние вечерней звезды на бледном, одухотворённом небосклоне через досконально изученное окно в коридоре, и вдруг увидел княгиню М. за библиотечным столом и с письмом в руке, которое, казалось, она только что прочитала. Она была одета во всё чёрное, как будто хотела уже одеждами объявить о возвышенном и только что выпавшем на её долю трауре. Её лицо было бледно, великолепную голову венчала диадема, погружённая в гущу тёмных волос и сиявшая в потёмках словно звезда в окне, которую я только что разглядывал. Вперявшиеся в некое отсутствие, некую неопределённую даль, большие и выразительные глаза княгини полнились слезами. Я непроизвольно остановился, сражённый красотой. Княгиня хоть и заметила меня, но — что вполне естественно — не обращала на меня внимания. При виде прекрасного меня всегда охватывает смелость, так что и в этот раз я осмелился спросить у прекрасной женщины вслух, словно это само собой разумелось: «Неужто княгини тоже плачут? Никогда не думал, что это возможно. Такие высокопоставленные дамы, так я думал, не оскорбляют и не пятнают своих чистых и ясных глаз, чистого и сияющего небосвода своего взгляда скверными, нечистыми слезами. Почему вы плачете? Если даже княгини плачут, если даже богатые и могущественные люди утрачивают равновесие и гордую, повелительную осанку, впадают в уныние и глубокую усталость, то что можно сказать и стоит ли удивляться при виде скорченных от боли и страдания попрошаек обоих полов, или при виде того, как бедные и униженные заламывают руки и не видят другого выхода, кроме как купаться в неостановимых стонах и потоках собственных слёз? Значит, нет никакой опоры в этом мире бурь и ненастий. Значит, везде и повсюду — одна только слабость. Хорошо же; в таком случае, я буду рад смерти, которая посетит меня в один прекрасный день, и с удовольствием прощусь с этим безнадёжным, больным, слабым, полным страха миром, чтобы отдохнуть, наконец, в славной и милой сердцу могиле от всех тягот и беспокойств».
Княгиня, которая отчётливо слышала всё, что я сказал, поскольку говорил-то я вслух, посмотрела на меня долгим и удивлённым взглядом, широко раскрыв глаза, очень серьёзно, но вовсе не строго и не без приязни, даже почти благосклонно, и уж во всяком случае, с добротой, то есть, без малого по-дружески. «Как вас зовут?» — спросила она после паузы; я ответил: «Тобольд». Она сказала, не спуская с меня задумчивого взгляда: «Вы выбрали хорошие и правдивые слова». Это было странно торжественное мгновение. Я как будто услышал приближающиеся шаги и потому удалился, решив, что стоять без дела в присутствии княгини в глазах третьего лица нехорошо и даже может сбить это самое лицо с толку. Кроме того, было самое время зажигать лампы, поскольку, как я уже говорил, за окном стемнело. Я слышал, как невдалеке шумел и бранился кастелян. Во всяком случае, так мне казалось. К тому же я знал, что граф всерьёз сердился, если в отношении ламп допускалась небрежность, и такие небрежности следовало предотвращать.
Вскоре после этого случая граф отправился в путешествие, и поскольку необходимость в моём присутствии отпала, как мне в приятной форме сообщили, я распрощался с замком. Мне милостиво выдали похвальный сертификат, в котором среди прочего значилось, что на меня можно положиться и что я прилежен и веду себя хорошо — свидетельство, которое меня, разумеется, порадовало. «Слушайте, Тобольд, — сказал мне кастелян, добродушно посмеиваясь, — вы уезжаете от нас на все четыре стороны. Вы кое - чему поднаучились, и я убеждён, что вы везде найдёте себе применение». Секретарь подарил мне на прощанье булавку в галстук. «Мы пошлём дюжину хороших сорочек вам вдогонку». Мне вручили сто марок наградных, и я вовсе не отказался эту сумму принять. Все говорили со мной по-дружески.
Все были довольны и доброжелательны. Утром следующего дня я промчался в коляске, которой правил Август, вниз по холму, на котором стоял замок. Никогда не забуду эту весёлую поездку, залитую влажным блеском солнца, продиравшегося сквозь зимние тучи. Как важный богатый господин сидел я в коляске, и, скручивая французскую сигарету, которую потом довольно нахально воткнул себе в зубы, я крикнул, исполнившись радостной дерзости и искренней радости жизни: «Теперь я — парень что надо. Что бы ни случилось, я не покорюсь, повернусь лицом к опасности и померюсь с ней силами. У меня такое чувство, как будто я готов противостоять половине, а то и целому миру. Фантазия, иллюзия, о чудесное светило! Как легко на душе. Я полон любви и воли к жизни и потому не могу удержаться от настоящего громкого смеха. Я в восторге! Вот бы превратиться в дикого скакуна и умчаться галопом в дальние счастливые страны. Признаем, наконец — божественно прекрасен, небесно хорош наш мир. Что за радость! Страх и беспокойство стали мне непостижимы. Жизнь — роза, и, хочу похвастаться и внушить себе, мне удастся сорвать эту розу. Земля с грохотом падает к моим ногам. Небо тут и там показывает крошечные кусочки застенчивой синевы. Хочу видеть в этом добрый знак. Мир: я буду с тобой сражаться. Я уезжаю долой от того, что уже испытал, и еду, качусь, скачу и лечу навстречу новым испытаниям. Оживлённая жизнь и оживлённые переживания, добро пожаловать. Прекрасно, если человек должен что-то выносить, терпеть. Жизнь даётся легко и играючи, когда требует большого и неутомимого терпения. Так что — вперёд, бросайся и плыви, будь бодрым пловцом. Думаю, я только что выстоял перед лицом некоего испытания и могу теперь смело и твёрдо сделать следующий шаг».
ЛАМПА, БУМАГА И ПЕРЧАТКИ 1916 («Kleine Prosa»)
Лампа, вне всяких сомнений, очень нужный и милый предмет. Различают лампы настольные, подвесные, спиртовые и керосиновые. Когда заходит речь о лампах, непроизвольно приходится вспомнить об абажурах, т. е. вовсе не обязательно. Это неправда, что приходится. Нас никто не заставляет. Я надеюсь, что каждый может думать, что ему угодно, но факт, кажется, остаётся фактом: лампа и абажур дополняют друг друга наилучшим образом. Абажур без лампы был бы ненужен и бессмысленен, а лампа без абажура казалась бы нам некрасивой и несовершенной. Лампа дана, чтобы давать свет. Незажжённая лампа не производит особенного впечатления. Пока она не горит, ей, так сказать, не хватает собственной сущности. Только когда она горит, её значение проясняется, и её смысл вспыхивает и пылает совершенно убедительно. Наш долг в том, чтобы уделять лампе наше уважение и наши аплодисменты, потому что — что бы мы делали в ночной темноте без света ламп? В тихом свете лампы мы можем читать или писать, уж как нам будет угодно, а поскольку мы заговорили о чтении и писании, то начинаем думать, хотим мы этого или нет, о книгах или письмах. Книги и письма, со своей стороны, напоминают нам ещё об одной вещи, а именно — о бумаге.
Как известно, бумага изготовляется из дерева и, в свою очередь, служит для изготовления книг, которые частью очень ограниченно или вообще не, а частью не только читаются, но и прямо-таки проглатываются. Бумага такая нужная вещь, что следует чувствовать побуждение и принуждение произнести: для прогрессивного человека бумага обладает феноменальным значением. Вряд ли заблуждается тот, кто утверждает, что без бумаги вообще не было бы человеческой цивилизации. Что бы стала делать всё-таки, я надеюсь, лучшая часть человечества, если бы бумаги вдруг стало не сыскать и не заполучить в пользование? Существование не просто многих, но подавляющего большинства людей вне сомнений неразрывно связано с существованием бумаги, настолько неразрывно, что нас это страшит, поскольку по более-менее здравом рассуждении нам нелегко избавиться от некоторой вполне легко представимой себе озабоченности на этот счёт. Вообще же говоря, бумага бывает толстая и тонкая, гладкая и шероховатая, грубая и нежная, дешёвая и дорогая, и, с позволения читателя, среди бумаг выделяются следующие сорта и виды: писчая бумага, глянцевая бумага, линованная бумага, почтовая бумага, обёрточная бумага, бумага для рисования, бумага газетная и шёлковая бумага. Родители автора содержали милую и элегантную бумажную лавку, потому он в состоянии как заводной перечислять один за другим разнообразные сорта бумаги. Кстати говоря, неужто в один прекрасный час не могло бы найтись в самом пыльном углу писательского ящика завалявшейся полоски бумаги, на которой была бы записана история следующего содержания:
ТОТ, КТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ
В давние или недавние времена жил-был тот, кто ничего не замечал. Он ни на что не обращал внимания, ему было на всё, скажем так, наплевать. Может быть, его голова полнилась важными мыслями? Отнюдь нет! Совсем была пустая и безмысленная голова. Однажды он потерял все свои сбережения, но ничего не почувствовал, потому что не заметил. Ему совсем не было жалко, потому что тому, кто ничего не замечает, ничего не жалко. Если ему случалось позабыть где-нибудь зонт, то он замечал это только когда начинался дождь и ему становилось мокро. Забыв шляпу, он замечал это только когда ему говорили: «А где же ваша шляпа, господин Бингели?» Его звали Бингели, но не его вина в том, что его так звали. Имя Лихти ему точно так же пришлось бы по душе. А однажды у него отвалились подошвы от ботинок, и так он и ходил босиком, пока кто-то не обратил его внимания на эту бросающуюся в глаза странность. Над ним смеялись повсюду, а он ничего не замечал. Его жена ходила с каждым встречным-поперечным, а Бингели этого никак не замечал. Он всё время низко склонял голову, хотя и не над чем-либо достойным пристального изучения. У него можно было стащить перстень с пальца, еду с тарелки, шляпу с головы, брюки и сапоги с ног, пальто с тела, пол из-под ног, сигару изо рта, собственных детей из-под носа и даже стул, на котором он сидит, а он бы ничего и не заметил. И вот в один прекрасный день, когда он вот так шёл своей дорогой, у него отвалилась голова. Наверное, не очень хорошо держалась на шее, если вдруг ни с того ни с сего взяла и отвалилась. Бингели не заметил, что головы-то больше нет; так и пошёл без головы, пока кто-то не сказал: «У вас, господин Бингели, головы нету». Но господин Бингели не услышал, что ему сказали, потому что у него же ведь отвалилась голова, а вместе с ней и уши. Так что господин Бингели вообще перестал что-либо ощущать, запах ли, вкус ли, ничего не слышал, не видел и не замечал. Веришь ли? Если хорошенько веришь, то получишь двадцать грошиков и купишь себе чего-нибудь хорошего, правда?