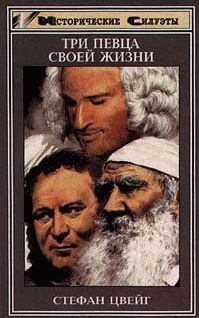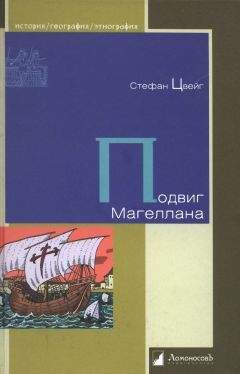Эта целенаправленная поучительная тенденция проскальзывает уже в "Анне Карениной". Уже тут, хотя еще бессознательно и неясно, нравственные и безнравственные отделены судьбой друг от друга. Вронский и Анна, люди чувственные, неверующие, эгоистичные в своей страсти, "наказываются" и приговорены к мучениям душевной тревоги; напротив того, Китти и Левин вознаграждены процветанием; впервые пытается здесь доселе неподкупный изобразитель высказываться за или против своих образов, потому что он нашел критерий - моральный. И эта тенденция подчеркивать, как это делается в учебнике, основные заповеди, так сказать, снабжать их восклицательными знаками и кавычками,- эта доктринерская побочная цель выступает все явственнее. В "Крейцеровой сонате", в "Воскресении" лишь тонкий прозрачный покров облекает в конце концов голое богословское нравоучение и легенды (в замечательной форме!) служат материалом проповеднику. Искусство перестает быть для Толстого конечной целью, самоцелью, и он "красивую ложь" может любить лишь постольку, поскольку она служит "истине", - но теперь уже не той прежней истине - правдивой передаче действительности, чувственно-душевной реальности, а, как он полагает, высшей - духовной религиозной истине, которая ему открылась в результате пережитого кризиса. "Хорошими" книгами Толстой отныне называет не богато задуманные и гениальные, а только те (не касаясь их художественной ценности), которые ратуют за "добро", которые помогают человеку стать терпеливее, мягче, более христиански настроенным, более гуманным, любвеобильным, так что честный и банальный Бертольд Ауэрбах [58] кажется ему важнее, чем "вредитель" Шекспир. Все чаще критерий художника заменяется критерием нравственного доктринера: несравненный изобразитель человечества сознательно и благоговейно уступает дорогу исправителю человечества, моралисту.
Но искусство, нетерпимое и ревнивое, как все божественное, мстит тому, кто его не признает. Там, где оно должно служить, не будучи свободным, подчиненное мнимой высшей силе, оно неудержимо ускользает из рук прежде любимого мастера, и как раз в тех местах, где Толстой перестает творить непреднамеренно и начинает поучать, угасает и бледнеет непосредственная прочувствованность его образов, их заливает серый холодный свет разума, сбиваешься и спотыкаешься о логические подробности и с трудом пробираешься к выходу. Пусть он впоследствии из морального фанатизма презрительно называет свои мастерски написанные произведения "Детство", "Отрочество" и "Юность", "Войну и мир" "скверными, ничтожными и безразличными книгами", потому что они отвечают лишь эстетическим требованиям, следовательно, "наслаждению низшего порядка", - слышишь ли, Аполлон! - в действительности они остаются мастерскими произведениями, а тенденциозно-моральные - более слабыми. Ибо, чем больше Толстой отдается своему "моральному деспотизму", чем дальше он отдаляется от основной способности своего гения, от передачи восприятий органов чувств, тем больше он утрачивает свою художественную ровность: как Антей, он получает всю силу от земли. Там, где Толстой направляет свои великолепные, острые, как алмаз, глаза на чувственное, он остается гениальным до глубокой старости: когда он возносится в облака и обращается к метафизике, тревожно уменьшается его проницательность. И почти потрясенный смотришь, какое насилие делает над собой художник, желая во что бы то ни стало витать и носиться в духовных сферах, несмотря на то что ему и никому другому среди современников предназначено судьбой тяжелыми шагами ходить по земле, боронить ее, вспахивать, познавать и изображать.
Трагическое разногласие, испокон веков повторяющееся во всех творениях и временах: то, что должно было возвысить художественное произведение, убеждение, стремящееся убедить других,- большей частью умаляет художника. Истинное искусство эгоистично, оно ничего не хочет, кроме себя и своего совершенства; истинный художник должен думать только о своем произведении, а не о человечестве, которому он его предназначил. Так и Толстой является великим художником там, где он нетронутым и неподкупным оком созерцает чувственный мир. Как только он становится милосердным, хочет помогать, исправлять, руководить и обучать своими произведениями, его искусство теряет свою захватывающую силу, и по воле судьбы он сам становится более потрясающим образом, чем все образы, созданные им.
Познать свою жизнь - значит познать себя.
Русанову, 1903
Неумолимо этот суровый взор направлен на мир, неумолимо сурово - и на себя. Натура Толстого не терпит неясностей, не терпит спутанностей и теней ни в себе, ни во внешнем мире: так не может художник, привыкший с вынужденной точностью отмечать линии контура каждого дерева или судорожные движения испуганной собаки, примириться с собственным тусклым, неясным, смешанным образом. Поэтому непреодолимо и неутомимо с самого раннего возраста его стихийная любознательность направлена на самого себя. "Я хочу познать себя всецело", - записывает девятнадцатилетний Толстой в своем дневнике, и с этого времени никогда уже не прекращается острое, наблюдательное, недоверчиво-настороженное отношение к собственной душе вплоть до восьмидесяти двух лет. Безжалостно Толстой кладет каждый нерв своего чувствования, каждую еще сочащуюся теплой кровью мысль под клинический нож самоанализа; таким сильным, как он сам - жизнеспособнейший гигант, таким же ясным должно быть его представление о своем "я". Фанатик истины, подобный Толстому, не может не быть страстным автобиографом.
Но, в противоположность изображению мира, автопортрет никогда не заканчивается однократным наблюдением, достаточным для художественного произведения. Чужой образ, вымышленный или являющийся результатом наблюдения, творец может закончить, включив его в свое произведение; пуповина отделяется после рождения, освобожденный вымышленный образ продолжает свое духовное существование. Он, как ребенок, вышедший из лона матери, самостоятелен и самовластен; выковывая его, художник от него освобождается. Собственное же "я" невозможно совершенно отсечь, изобразив его, потому что единичное наблюдение постоянно меняющегося "я" не дает законченности. Поэтому великие автопортретисты повторяют собственное изображение всю свою жизнь. Все они - Дюрер, Рембрандт, Тициан - начинают в юности с автопортретов перед зеркалом и прекращают их, когда рука уже бессильна, ибо их равно интересуют в собственном физическом облике как неизменно-постоянные, так и непрерывно меняющиеся черты, а поток времени поглощает каждый прежний портрет. Точно так же великий изобразитель истины Толстой не может закончить свой автопортрет. Едва он дал, как ему кажется, окончательную форму своему образу, - будь то Нехлюдов, Сарынцов, Безухов или Левин, - он перестает в законченном произведении узнавать свое лицо; и чтобы уловить обновленную форму, он должен снова приняться за дело. Так же неутомимо, как Толстой-художник ловит свою душевную тень, его "я" стремится в душевном беге к вечно новой и неисполнимой задаче; этот гигант воли чувствует себя призванным овладеть ею. Поэтому за шестьдесят лет титанической работы нет ни одного произведения, которое в каком-нибудь образе не являло бы облика самого Толстого, и вместе с тем нет ни одного, которое давало бы представление о всей многогранности этого человека; только в сумме все его романы, рассказы, дневники и письма, целый поток произведений, дают его самоизображение; но зато это самый разносторонний, проработанный, внимательный автопортрет из всех созданных в нашем столетии.
Никогда не может этот неизобретающий, способный лишь передавать переживания и восприятия человек исключить из своего кругозора себя самого - живущего и воспринимающего. Приходя в отчаяние от своей эгоцентричности, он не теряет ощущения своего "я" даже в мгновения экстаза; его анализирующая настороженность не смыкает веки даже в минуты страсти. Никогда не удается Толстому, столь непоколебимому во всем остальном, - чего бы он ни дал, чтобы освободиться от гнета собственного "я"! - всецело отделиться от своей плоти, забыть себя; он не может самозабвенно отдаться даже своей любимой стихии. "Я люблю природу, когда со всех сторон она окружает меня (нужно обратить внимание на "меня" и "я") и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов". Даже ландшафт, приносящий ему величайшую радость, он - это ясно чувствуется - ощущает только как радиус и окружность, в центре которой находится его "я", этот неподвижный центр тяжести для всех движений; именно так вращается весь духовный мир вокруг его телесно-духовной личности. Не то чтобы Толстой был тщеславен в мелком смысле этого слова, - заносчив, самоуверен, считал бы себя пупом мира, нет, не было человека, который, зная себя так хорошо, был бы столь недоверчив по отношению к своей моральной значимости, - но он слишком прикреплен к собственной могучей плоти, скован ощущением самого себя; он не может отвлечься от себя, забыть свое "я". Непрерывно, вынужденно, часто против воли и всегда помимо своей воли он должен изучать себя до изнеможения, подслушивать, объяснять, день и ночь "быть настороже" по отношению к собственной жизни. Его автобиографический пыл не прерывается ни на мгновение, так же как течение крови в его жилах, биение сердечного молота в груди, ход мыслей за его лбом: творить - значит для него судить и обсуждать себя. Поэтому нет формы самоизображения, в которой Толстой не упражнялся бы, - наивное и простое повествование, чисто механическая ревизия фактического материала, воспоминаний, педагогический, моральный контроль, нравственное обвинение и духовное раскаяние; таким образом, самоизображение является одновременно самоусмирением, самоподжиганием; автобиография - актом эстетическим и религиозным, - нет, невозможно описать в отдельности все формулы, все манеры его самоизображения. С уверенностью можно сказать одно: Толстой, сфотографированный большее число раз, чем кто-либо из людей нового времени, вместе с тем и лучше известен нам, чем кто-либо другой. Мы знаем его в семнадцатилетнем возрасте из его дневников не хуже, чем в восьмидесятилетнем, мы знаем его юношеские увлечения, его семейные трагедии, его самые интимные мысли с такой же архивной точностью, как его самые обыкновенные и самые безумные поступки; ибо и тут, - прямая противоположность Достоевскому, жившему "с замкнутыми устами", - Толстой хотел провести свою жизнь "при открытых дверях и окнах". Благодаря такому фанатическому самообнажению мы знаем каждый его шаг, все мимолетные и незначительные эпизоды восьмидесятого года его жизни так же, как мы знаем его физический облик по бесконечным снимкам, - за шитьем сапог и в разговоре с мужиками, верхом на лошади и за плугом, за письменным столом, за лаунтеннисом, с женой, с друзьями, с внучкой, спящим и даже умершим. И это ни с чем не сравнимое изображение и самодокументирование еще дополнено бесконечными воспоминаниями и записями всех окружавших его, жены и дочери, секретарей и репортеров и случайных посетителей: я думаю, что можно было бы еще раз вырастить леса Ясной Поляны из бумаги, использованной для воспоминаний о Толстом. Никогда писатель сознательно не жил так откровенно; редко кто-либо из них открывал свою душу людям. После Гете мы не знаем личности, так хорошо документированной внутренними и внешними наблюдениями.