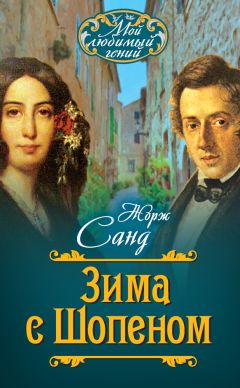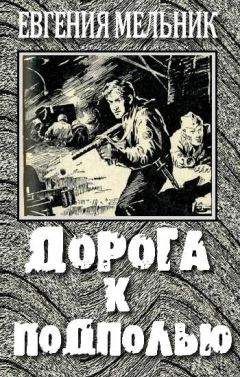Но придя наконец на мельницу, он почувствовал себя совершенно обессиленным и, сообщив доброй мельничихе, что ей не надо дожидаться сына, свалился замертво на складную кроватку, которую Луи поставил для него в своей комнате. Большая Мари тоже отправилась на отдых, перед тем посоветовав Жанни спать покамест одним глазом, дабы его можно было добудиться, когда вернется хозяин и нужно будет препроводить Софи в стойло. Но любящие матери не спят, а только чуть дремлют, и когда ночью разразилась гроза и над долиной прокатился гром, старуха мгновенно очнулась от сна: ей показалось, что это сын стучится в каморку Жанни на мельнице. На рассвете она тихонько поднялась и прежде всего пошла сказать работнику, чтобы он не шумел и дал выспаться Большому Луи, который, должно быть, приехал очень поздно и потому встанет также позже обычного. Но Жанни ответил ей, что хозяин еще не возвращался. Старуху это удивило и даже испугало.
— Быть не может! — воскликнула она. — Когда он не ездит дальше Бланшемона, он всегда ночует дома!
— Очень просто, хозяюшка: это же канун праздника, в такую ночь никто не спит. Кабачки не закрываются, приходят волынщики и играют развеселую музыку. Душа радуется… И все ждут не дождутся, когда начнется самый праздник; никому и в голову не приходит завалиться на боковую, потому как людям боязно заспаться и упустить какое-нибудь развлечение. Хозяин, верно, гулял там всю ночь напролет, не до сна ему было.
Мельничиха меж тем открыла дверь конюшни, чтобы проверить, не стоит ли Софи у своей кормушки.
— У твоего хозяина нет привычки проводить ночи в непотребных местах, — ответила она Жанни, покачав головой. — Я подумала было, — добавила она, — что он вернулся и не стал тебя будить, — он ведь жалеет людей; скорее сам сделает все, что нужно, чем нарушит покой такого младенчика, как ты, который спит так, что хоть из пушек пали. Но сам-то он провел ночь не спавши! Он уже два дня тому назад здорово утомился — ездил далече; позавчера лег изрядно за полночь, а в эту ночь и совсем не ложился.
Мельничиха глубоко вздохнула и пошла доставать из шкафа свое воскресное платье.
«Вот присуха-то! — думала она. — От этой любви ему одно мучение, нет покоя ни днем ни ночью. И чем это кончится — одному богу ведомо!»
Мельничиха была погружена в невеселые размышления и по привычке, свойственной многим старым людям, говорила сама с собой в то время, как переходила от шкафа к гладильной доске и обратно, приводя в порядок свой старинный корсаж с длинной баской и ситцевый передник в клетку, который она заботливо берегла с молодых лет, весьма его ценя, потому что он стоил в ту пору вчетверо дороже, чем намного лучшая ткань стоит в наши дни.
— Не огорчайтесь, матушка! — сказал Большой Луи, который, стоя у порога, слушал ее, поначалу ею не замеченный. — Что уж тут! Чему быть, того не миновать! Но сын ваш, будьте уверены, все сделает, чтобы вам счастливо жилось!
— Ах, сынок, я и не видела, как ты вошел! — воскликнула мельничиха, смутясь от того, что сын застал ее, женщину пожилую, с неприбранными, спустившимися на плечи волосами, ибо крестьянки Черной Долины во времена ее молодости почитали весьма неприличным показываться на люди простоволосыми. Но это непроизвольное чувство неловкости, пережиток старинных преувеличенных представлений о благопристойности, тотчас оставило Большую Мари, когда она рассмотрела, как выглядит ее сын, — а он был бледен и одежда его была в беспорядке.
— Силы небесные! — воскликнула она, всплеснув руками. — Что у тебя за вид, сынок? Ты словно всю ночь мокнул под дождем! Так и есть, ты все еще не просох! Быстро пойди переоденься! Что же это, не нашлось дома, где спрятаться от дождя? А как ты осунулся, как побледнел! Ах, сынок, ты как будто нарочно заморить себя хочешь!
— Полно, матушка, не растравляйте себе душу зазря! — отвечал мельник, пытаясь принять свой обычный веселый вид. — Я провел ночь под гостеприимным кровом, у людей, к которым поехал по делу. Они меня накормили хорошим ужином. Дождиком меня помочило только недавно, когда я домой возвращался, потому как я шел пешком.
— Пешком? А куда ты девал Софи?
— Я ее одолжил одному человеку… Там…
— Какому человеку? Где это — там?
— Ну, словом, одолжил… Потом вам все расскажу. Ежели вам охота поехать на празднество, я возьму вороную кобылку, и вы сядете позади.
— Напрасно ты отдал Софи, сынок! Другой такой лошади нету! Ее бы надо поберечь! Лучше уж было бы отдать обеих других лошадей — я так считаю.
— Я тоже. Но что поделаешь? Так уж вышло. Ну, я пойду переоденусь, матушка, а когда вы соберетесь ехать — кликните меня.
— Нет, так не пойдет, сыпок. Я вижу, что ты глаз не сомкнул этой ночью, и хочу, чтобы ты прежде соснул. У нас еще достаточно времени до заутрени. Ах, Большой Луи, у тебя совсем усталый вид! Душу из себя выгоняешь, а что толку?
— Не тревожьтесь, матушка, я чувствую себя здоровым, а такое скоро не повторится. Надо же иногда покуролесить!
И мельник, еще больше приунывший оттого, что он огорчил мать, чье беспокойство и недовольство никогда не выражалось иначе, как в крайне сдержанной и деликатной форме, пошел к себе и в досаде бросился на кровать так резко, что разбудил Лемора.
— Вы уже встаете? — спросил Лемор, протирая глаза.
— Нет, я, с вашего разрешения, ложусь! — ответил мельник, подтыкая тюфяк яростными ударами кулака.
— Вы чем-то очень расстроены, дружище? — спросил Лемор, которого окончательно разбудили эти явные признаки того, что в Большом Луи клокочет гнев.
— Расстроен? Да, сударь, признаюсь, расстроен, — и, может быть, больше, чем стоило бы. Но хоть я и понимаю это, мне все равно не легче! Ничего не могу с собой поделать!
И из покрасневших от усталости глаз мельника покатились крупные слезы.
— Друг мой! — вскричал Лемор, соскочив с постели и быстро одеваясь. — Я вижу, с вами ночью стряслась какая-то беда! О господи! А я-то спокойно спал! Что могу я сделать для вас? Куда надо бежать?
— Ах, не бегите никуда! Бесполезно! — ответил Большой Луи, пожав плечами, словно устыдился собственной слабости. — Я бегал всю ночь как шальной, и все попусту! Прямо дух из меня вон. И добро бы еще было из-за чего! А то ведь ерунда какая! Но смейтесь не смейтесь, а к животным привязываешься, все равно как к людям, и о старой лошади горюешь, как о давнишнем друге. Вам, горожанам, этого не понять, но мы, деревенские, живем бок о бок с нашей скотинкой и сами мало чем отличаемся от нее…
— Словом, я понимаю: вы потеряли Софи.
— Да, потерял… То есть ее украли.
— Не вчера ли в заказнике?
— Именно. Вы помните, у меня было дурное предчувствие! Когда мы с вами расстались, я вернулся на то место, где спрятал ее. Она сама, бедняжка, оттуда, конечно, никогда бы не ушла; ведь она терпелива, как овечка, и за всю свою жизнь ни разу не порвала ни уздечки, ни недоуздка. Так вот, сударь, и лошади и уздечки как не бывало! Я искал, искал, с ног сбился. Тю-тю, поминай как рвали! Да притом еще не очень-то я мог расспрашивать, особенно на ферме. Люди бы стали подозревать неладное. Меня бы самого спросили, как это так вышло, что я уехал верхом и но дороге потерял лошадь? Решили бы, что я был пьян, и госпожа Бриколен не упустила бы случая доложить мадемуазель Розе, что я влип в какую-то дрянную историю. А это, разумеется, не к лицу мужчине, для которого только свету, что в окошке, то есть в ней, в Розе. Сперва я подумал, что кто-то захотел надо мной подшутить: обошел все дома в селе — почти нигде еще не спали; забрел к одному, к другому, к третьему, вроде бы невзначай, сунул нос во все конюшни, умудрился даже незаметно заглянуть в конюшню нового замка… Софи нет как нет! В это время в Бланшемоне бывает полно всякого сброду, и, понятное дело, среди пришлого люда мог найтись какой-нибудь ловкий пройдоха, который пришел пешим ходом, а уехал верхом — весьма довольный: праздник начался для него раньше, чем для других, а дальше ему уже было неинтересно. Ну ладно, нечего больше ломать себе голову! Хорошо еще, что во всей этой заварухе я не вовсе одурел: успел-таки на своих двоих слетать в Лашатр и повидать нотариуса. Правда, было уже поздновато, господин Тайян недавно отужинал и несколько осовел после плотной еды. Но он пообещал мне пораньше приехать на праздник. Уйдя от него, я еще поискал свою пропажу, шарил по кустам, словно ночной охотник, шатался в грозу, под ливнем до самого рассвета, все надеялся, что обнаружу, где прячется мой ворюга… Ничегошеньки! Я не хочу трезвонить об этом происшествии, а то выйдет шум, и, коли начнется дознание, хороши мы с вами будем с такой историей: спрятали лошадь в заказнике, оставили ее одну на целый час, а почему да зачем — объяснить никак невозможно. Я поставил ее подальше от места вашего свидания, для того чтобы она, коли бы вдруг задвигалась или заржала, не привлекла внимания к вам. Бедная Софи! Надо было мне положиться на ее понятливость. Она бы и не пошевелилась.
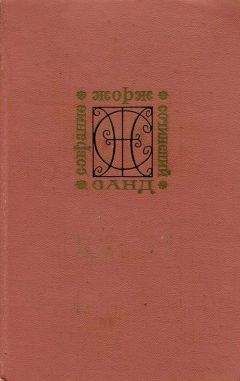
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](https://cdn.my-library.info/books/132604/132604.jpg)